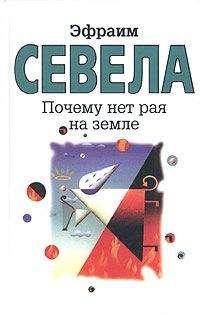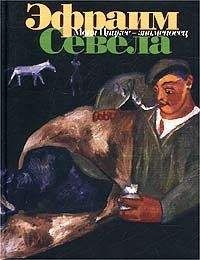Это оказался сторож Иван Жуков, уже старый и без ордена, который он где-то потерял по пьянке, сидевший теперь в засаде под забором, подстерегая безбилетную шпану. От прошлого Жукова в нем остались лишь багровый от пьянства нос и деревянная нога.
Он так испугался, когда я чуть не придушил его своей тяжестью, что долго не мог прийти в себя, и я потом угощал его водкой в буфете, и он выпил целых триста граммов, пока восстановил нормальную речь.
Жуков плакал пьяными слезами, глядя на меня, и искренне сокрушался, что из всей нашей банды уцелел и выжил я один. И говорил, моргая красными веками и хлюпая носом, что он еще тогда меня приметил, и поэтому нет ничего удивительного, что я вымахал таким молодцом. Потом он жаловался мне на жизнь, на злую обиду, нанесенную ему. Появились новые, заграничные протезы, и их выдают бесплатно инвалидам Отечественной войны, а его обошли, потому что он с гражданской войны, и неблагодарные люди забыли, что именно он, ценой своей ноги, устанавливал для них советскую власть. Он еще долго сокрушался об ушедшем поколении, которое не чета нынешнему. И на прощанье мокро облобызал меня, выругался по матери и сказал:
— Нужен мне их протез! В гробу я их видал в белых тапочках! Я свой самодельный на сто новых не променяю.
Мне было приятно сидеть с Жуковым. Будто родственника встретил. Не очень любимого. Но своего человека, с которым у меня есть какие-то общие воспоминания.
— А Харитон Лойко где? Жив? — вдруг спросил я, почему-то решив, что пьяницы друг о друге должны знать.
И не ошибся.
— Нет его, — вздохнул Жуков. — Царство ему небесное. Фашисты расстреляли.
— За что? — искренне удивился я. — Он же не еврей. И коммунистом не был.
— Мало ли за что убивают, — поморщился Жуков. — Сам знаешь, какая цена человеческой жизни. Вот медали носишь… Небось, тоже убивал… Давай еще выпьем.
Я заказал ему еще сто граммов водки, и старик совсем захмелел:
— О чем это мы тут с тобой говорили? За что Харитона Лойко расстреляли…
— Верно… Сказывают, евреев в своей хате прятал, а немцы за это пускали в расход немилосердно.
— Его… одного расстреляли?
— Ну, и евреев, конечно… которых у него нашли.
— А еще кого?
— Мало тебе, что ли? — Жуков удивленно глянул на меня.
— А у Харитона жила девочка… сирота…
— Слепая, что ли?
— Вот-вот. Марусей ее звали. Милостыню возле базара собирала…
— Как же… знаю.
— Ее тоже убили?
— Нет, — убежденно сказал Жуков и даже усмехнулся. — Чего же на убогую пулю тратить?
— А куда она девалась? — загорелся я. — Может, встречали ее где?
— А как же? Считай, каждый день встречаю. И ты пойдешь и встретишь…
— Куда пойти?
— На Центральную площадь. Памятник героям гражданской войны помнишь? Уцелел памятник. Людей нет, а памятник есть. Вот там она и сидит… побирается.
Меня бросило в жар. Я хотел тут же бежать искать Марусю, но Жуков удержал меня тем, что сказал — в такое позднее время ее там быть не может, а вот утром непременно будет сидеть.
Возможно, Жуков хотел еще сто граммов водки выпить за мой счет и поэтому удержал меня. А может быть, говорил правду. Я заказал ему водки. И даже кое-что из закуски. Он вполне заслужил такой награды. За сведения, которыми меня снабдил.
Рано утром я спешил к Центральной площади. Вся Социалистическая улица сгорела дотла, но так как на ней до войны стояли только каменные здания, то не было пепелищ, а пустые кирпичные коробки сиротливо глядели на меня закопченными дырами окон. Тротуары были очищены от обломков, и на них, вернее, на той же правой стороне, как и до войны, сидели и стояли нищие. Совсем не те, кого я помнил с детства, а новые — инвалиды войны. Безрукие и безногие мужчины, донашивавшие армейское обмундирование, просили милостыню. Без всяких фокусов, как это делали некогда знаменитые Копейка или Андриан. Просто протягивали руку. Если рука была цела. И не просили, а гневно требовали у прохожих. Некоторые инвалиды были пьяны уже с утра.
Памятник стоял невредим на Центральной площади, поблескивая мраморными гранями, и даже фамилии похороненных под ним героев гражданской войны можно было прочесть, невзирая на то что позолота букв заметно поблекла. Имена героев были сплошь еврейскими. И немцы, которые несколько лет хозяйничали в городе, не придали этому значения и не уничтожили памятник. А исчезли еврейские имена с памятника позже, когда Сталин, которому не давали покоя лавры Гитлера, стал притеснять евреев в Советском Союзе. Вот тогда под предлогом ремонта памятника сменили мраморные плиты облицовки и на них вместо еврейских имен золотом вывели слова: «Вечная слава героям!» Каким героям? Как их звать? А это никого не касается. Герои, и все. Безымянные.
Подходя к памятнику, я заметил, что кое-где мрамор поврежден осколками и в нем зияют рваные дыры, будто он болел в оккупацию оспой.
Маруся сидела на нижней ступени, и я, остановившись перед нею, долго и взволнованно разглядывал ее. Она очень изменилась с тех пор. Тогда была худенькая рыженькая девочка с закрытыми глазами. Теперь передо мной с такими же склеенными ресницами сидела полногрудая женщина довольно высокого роста и широкая в кости. Узнать ее можно было лишь по густым волосам медного цвета да по веснушкам на белой коже. И конечно, по незрячим глазам.
На ней был поношенный серо-зеленый китель, должно быть снятый с убитого, а на ногах русские солдатские ботинки, без чулок, обутые прямо на босу ногу. Пока я шел увидеться с ней, мне всю дорогу казалось, что встречу удивительную красавицу. В моей памяти маленькая слепая девочка осталась трогательно-красивой. Взрослая Маруся имела заурядное простое крестьянское лицо, широкое и курносое.
Она почувствовала, что кто-то долго стоит и разглядывает ее. Улыбка тронула ее обветренные губы: Кто ты, добрый человек?
— Здравствуй, Маруся, — сказал я, и она сразу узнала меня по голосу и назвала по имени.
Ты живой? — ахнула она, покраснев до ушей, и, поднявшись со ступени, твердо направилась ко мне и провела ладонью по моему лицу. — Боже мой! Какой пригожий! Живой и красивый.
Я обнял ее, поцеловал в обе щеки, и тогда она прижалась ко мне, как к родному брату, тихо заплакала, выдавливая слезы из-под склеенных ресниц.
— Родненький мой, золотой, — безостановочно гладила она мой затылок и плечи. — Живой, невредимый. Один ты, можно сказать, и сохранился. А другие в могиле. Совсем еще дети были.
Я понимал, кого она имела в виду под другими, и не задавал лишних вопросов. Прохожие с удивлением смотрели на обнимающуюся у памятника необычную пару: молодого солдата и слепую нищенку.
Мы оба сели на мраморную ступень памятника, и Маруся не выпускала моей руки из своих ладоней.
Ты и теперь поешь? — спросил я, растроганный и смущенный.
— Ага, — кивнула Маруся. — Помнишь? И она тихо запела:
Он лежит, не дышит И как будто спит.
Золотые кудри Ветер шевелит.
Только без аккомпанемента, — горестно вздохнула она. — Нет нашей скрипочки.
Я сказал Марусе, что на пепелище дома нашего друга я нашел обугленный гриф той самой маленькой скрипочки.
— Себе на память оставишь? — спросила Маруся, все еще гладя ладонью мою руку. — Верно, храни ты. Ты его дольше знал. Уж какие вы товарищи были, теперь таких не осталось.
Ты знаешь что-нибудь… как он погиб?
— А как же? — встрепенулась Маруся. — Я же его прятала в нашей хате.
Ее слова взволновали меня до того, что я почувствовал, как дрожат у меня руки, когда прикуривал и долго не мог разжечь сигарету. А Маруся не торопясь, в подробностях рассказала мне о последних днях нашего друга.
Вскоре после того, как город был оккупирован германскими войсками, всех евреев собрали на окраине, оградив улицы колючей проволокой, и запретили евреям покидать это место. Берэлэ Мац с отцом, матерью и сестрой очутился в гетто. По эту сторону проволоки в городе остались только русские. Все ходы и выходы охраняли не немцы, а подобранная ими из местных уголовников полиция.
Что ожидает загнанных в гетто евреев не было секретом для остального населения. Прослышала об этом и Маруся и сразу же подумала о Берэлэ. Полицейские, охранявшие гетто, не стали задерживать в воротах слепую нищенку, только посмеялись:
— Ничем там не разживешься. Евреям в пору самим милостыню просить.
В гетто было много людей из тех, кто совсем недавно слушали на Социалистической улице дуэт еврейского мальчика со скрипкой и слепой русской девочки с тонким голоском, и они привели Марусю к Берэлэ Маруся рассказала ему, какие слухи об уготованной евреям судьбе распространяются по городу, и предложила забрать его и спрятать у себя в хате.
— А отец? — спросил Берэлэ. — А мать? А сестра? Всех спрячем.
— А Харитон не прогонит?
— Не твое дело. Это — моя забота.
Берэлэ, наловчившийся делать подкопы в цирке и обводивший вокруг пальца такого опытного сторожа, как Иван Жуков, без больших осложнений вывел ночью из гетто через дыру в колючей проволоке свою семью, и Маруся до самого утра вела их обходной дорогой по городским окраинам до домика лодочника на реке.