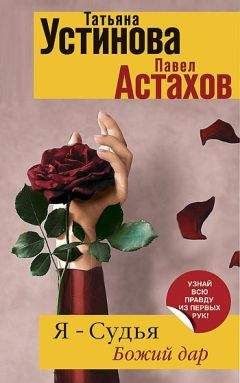Опрятно одет? Сыт? В материалах дела написано, что у ребенка дефицит веса, опрелости, что одежда — грязная и рваная, а никаких фруктов не было и в помине. И кто врет? Опека? Или все же Судакова, подруга ответчицы?
— Вызывается свидетель Бутовская Галина Викентьевна!
Соседка Калмыковой пылала праведным гневом.
— Мать, которая любит ребенка, не запирает такую кроху в квартире на весь день! Она может рассказывать, что помогать ей некому, мать у нее инвалид и так далее. Но я лично, и не один раз, предлагала Нине присмотреть за ребенком в ее отсутствие. Разумеется, я не могу проводить с ним целый день, но вполне могла бы два-три раза покормить мальчика, переодеть его, уложить спать…
— Калмыкова, вы подтверждаете, что соседка предлагала вам помощь по уходу за ребенком?
— Не помню…
— Постарайтесь вспомнить!
— Может, и предлагала. Только у меня нет денег ей платить.
Галина Викентьевна даже задохнулась от негодования:
— О каких деньгах вы говорите! Нина! Это отвратительная, бессовестная ложь! Ваша честь, мы с супругом достаточно обеспечены… Моя старшая дочь живет в США, она врач, хорошо зарабатывает, помогает нам, Эдуард Альбертович, это мой супруг, работает, я получаю пенсию… Деньги! Бог мой, мне не нужны деньги! Мне жаль мальчика, он плачет целыми днями, это невыносимо, у меня сердце разрывается!
Да, не похоже, что эта дама бедствует — прическа, маникюр, камея на воротничке блузки… Ухоженная, благополучная и, кажется, говорит вполне искренне.
— Вы объясняли ответчице, что готовы оказывать помощь безвозмездно?
— Ну разумеется! Я сразу сказала, что мне не нужны никакие деньги. Но она мне нагрубила, велела не совать нос в чужую жизнь…
— Калмыкова чем-то мотивировала отказ от помощи?
— Сказала, что ключи от квартиры кому попало не дает. Я так поняла, Нина испугалась, что мы хотим ее обворовать. Хотя, честно сказать, я не представляю, что там можно украсть. Хрустальную вазу? Шубу? Так у меня своя есть…
Шубу? Значит, героическая мамаша Калмыкова все же не ходит зимой в осеннем пальто, как рассказывала Судакова?
— Нинин мальчик никогда не гуляет! — продолжала Галина Викентьевна. — Они в нашем подъезде живут… Сколько? Полгода? Нет, наверное, месяцев восемь. Я ни разу не видела, чтобы Нина с ним гуляла. И никто из соседей не видел. Я пыталась с ней говорить на эту тему. Ребенку нужен свежий воздух, побегать надо, поиграть во дворе, у нас оборудовали чудесную детскую площадку. Но Нина сказала, что у нее нет времени гулять с Димой.
— Калмыкова, вы хотите возразить? Что-то добавить?
— Да, ваша честь.
— Прошу вас!
— Я не могу гулять с ребенком часто, я работаю!
— Вы купили сыну теплые вещи и обувь?
Калмыкова потупилась:
— Еще нет.
— Почему?
— У меня не было времени.
— Материальную помощь вам выделили два месяца назад. За два месяца времени не нашлось?
— Нет. У меня много работы.
Лена придвинула к себе медицинское заключение из больницы. А вот это будет посерьезнее зимних сапог, которые Калмыкова, судя по всему, даже и не собиралась покупать сыну.
— Нина Ивановна, — обратилась Лена к Калмыковой. — В медицинском заключении из больницы, где вашего ребенка осматривали, отмечены множественные травмы и повреждения — свежие и не очень. Так (Лена взяла протокол в руки и стала читать), «имеется след от ожога на левом предплечье, сросшийся перелом правой голени, многочисленные ссадины и ушибы мягких тканей на лице, корпусе, на руках…». Вы как-то можете это объяснить?
Нинка нахмурилась. Какой еще перелом? Не было никакого перелома. Или был? Может, это когда Димка зеркало в прихожей опрокинул? Она в тот вечер была дома, смотрела «Кармелиту» по телику. Димка мешал смотреть: ползал под ногами, тянул за полу халата, выл, орал, стучал об пол пластмассовой кеглей (набор этих кеглей подарили девчонки с работы). Она посадила Диму в кровать, но он стал так истошно вопить, что Нинка его из кровати вытащила. Выставила в коридор и закрыла дверь в комнату. Димка бесновался в прихожей, но через дверь его было почти не слышно. Потом из прихожей раздался страшный грохот. Нина выскочила из комнаты. На полу валялось расколотое надвое тяжелое зеркало (три тысячи за него в том году отдала, хорошее было зеркало, в рост). Димка лежал рядом и орал благим матом. Может, он тогда ногу-то сломал? Нинка припомнила, что после того случая Димка не хотел ни ползать, ни в кровати стоять, а по ночам орал как резаный, не замолкая. Нинка от этих его криков чуть с ума не сошла, несколько дней он ей спать не давал. Даже на работе заметили, что она бледная какая-то. Будешь бледная, если три ночи не спать… Спасибо, Анька научила подмешать Димке в соску пива. Нинка намешала, и Димка стал спать. Но про пиво в суде лучше молчать, а то еще скажут, что она алкоголичка и спаивает ребенка. Одно дело — мать-одиночка, которая мечется между домом и работой, другое — пьяница. Пьянице никто сочувствовать не станет. А уж если на работе узнают…
— Насчет перелома я ничего не знаю, — сказала Нинка. — Может, врач ошибся. Может, и не было никакого перелома.
— Думаю, врач не ошибся, Нина Ивановна, — сказала Лена. — Наверное, сломав ногу, ребенок плакал. Вас это не насторожило?
— Он все время плачет, на то он и ребенок, — отрезала Нинка. Злобная судьица выводила ее из себя. — Он говорить не умеет, сказать, где болит, не может, как я узнаю, что у него там сломано?
Она посмотрела на судьицу победительницей: что, мол, съела?
Судьица кивнула:
— Допустим, о переломе вы ничего не знали. А обо всем остальном? Вы должны были заметить ожог, ссадины…
Ожог Нинка заметила, да. Димка опрокинул себе на руку заварочный чайник с кипятком и так завывал, что трудно было не заметить.
— И что вы предприняли? — не унималась судьица. — Вы обратились к врачу? Оказали ребенку помощь?
— Оказала, — ответила Нинка.
Тут ее упрекнуть было не в чем. Она действительно намазала Димке руку ихтиолкой и завязала марлей, чтобы он не расчесывал. А что врач в детской поликлинике принимает в рабочее время, и, чтобы к нему пойти, ей надо с работы отпрашиваться, — так в этом она не виновата. Да и вообще: ожог — не такая вещь, чтобы из-за этого по врачам ходить. Нинка, вон, в детстве, опрокинула на себя тарелку супа горячего, весь живот облила, потом два месяца бинтовали. И что? Никто ее к врачу не водил. Тоже намазали ихтиолкой. Да еще мать по заднице надавала, чтобы неповадно было. И ничего, жива же?
— Нина Ивановна, скажите, вы наказываете своего ребенка? Бьете его?
— Бью? Нет. Сроду не била. Если вы насчет синяков — так это он сам. Ребенок — он и есть ребенок. Там упал, тут ударился…
Судьица покачала головой. Нинка так и не поняла, убедила она ее или нет. Судьица велела ей сесть, и Нинка прошла на свое место, по дороге стрельнув глазами на пристава. Какой все же симпатичный парень, ну прям очень симпатичный… Жаль, что он на нее ноль внимания…
— Прошу всех встать! Суд удаляется для вынесения решения!
Лена ударила молоточком по столу.
Она поднялась с места, вышла. Пристав прикрыл за ней дверь.
* * *
Дима не присутствовал на заседании. Помощнику не полагается. Но он знал, что дело непростое, и думал, что, наверное, Елене Владимировне будет очень и очень нелегко выносить решение по этому делу.
Необходимость принимать решения, от которых зависит чужая жизнь, всегда пугала Диму. В свое время, именно чтобы избежать этого, он пошел на юридический, а не в медицинский институт, по стопам отца.
Димин отец — известный хирург, причем не просто хирург, а со специализацией «медицина катастроф». Единоличные решения, от которых в самом буквальном смысле зависит жизнь человеческая, он принимает каждый божий день, иногда — несколько раз на дню. Он принимает решение (быстро, часто — мгновенно, в медицине катастроф нет времени на долгие раздумья), действует в соответствии с ним, оперирует больного, и тот либо выживает, либо нет. Решения отца всегда были не просто правильными — единственно возможными. Однажды, один раз за тридцать лет работы, отец принял верное решение слишком поздно. Опоздал на несколько минут. И всю жизнь помнил, как тогда его нерешительность стоила человеку жизни. Не мог себе позволить забыть, должен был помнить. Чтобы не повторить ту ошибку.
Свою единственную ошибку отец носил с собой, как горбун свой горб, и иногда Дима видел, как ему тяжело жить с этим горбом. Но отец — он сильный, рассудочный, трезвый, да иначе в его профессии и нельзя. Ему этот горб хребта не сломал. А Дима пошел в мать-актрису: низкий болевой порог, тонкая кожа. Если из-за него пострадает живой человек, он этого просто не переживет, сломается. Потому и выбрал не медицинский, а юридический.
Дима собирался стать адвокатом, и это его в высшей степени устраивало. Помогать, но не вершить судьбы. Не хирургия — гомеопатия. Ты помогаешь человеку по мере сил, но режет по живому, принимает окончательное решение все равно судья.