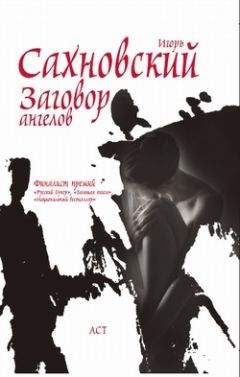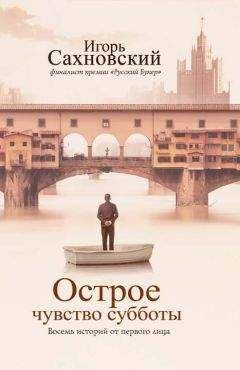На другой стороне улицы музыкант в клетчатом шарфе оглядывал свой саксофон так, будто готовился к первому поцелую. Он не подносил мундштук ко рту, а склонялся к инструменту, осторожно вытягивая губы в трубочку. Наконец он отважился исполнить первую фразу, которая звучала примерно так: «Неужели всё это возможно, неужели возможно-о??..» И замолчал. Вероятно, ему надо было обдумать ответ. Проходящий мимо ирландский сеттер с податливой хозяйкой на поводке остановился послушать. Саксофонист не нашёл ответа и продолжил вопрошать: «А если это был не я? А-а?..» За точный пересказ мелодии не ручаюсь, но по смыслу очень близко. Сеттер задумался тоже.
Тут я не сдержался и вынул из наплечной сумки видеокамеру: довольно бесстыдный туристский жест, но я хотел помешать этой сцене закончиться и навсегда растаять в уличном тумане. Если уж начистоту, я не только фиксировал эту сияющую реальность, но и по возможности слегка отгораживался от неё, чтобы не обжечь глаза или не раствориться до конца.
При виде камеры саксофонист умолк и отвернулся, уводя в сторону свой поцелуйный инструмент. На его месте я, наверно, поступил бы так же.
Дороти вышла из магазина и сказала:
– Я купила тебе галстук.
– Спасибо. Но я не ношу галстуки, почти никогда.
– Да, я знаю, поэтому и купила. Ещё я тебе купила рубашку. Ив Сен-Лоран.
– А это в честь чего?
– У тебя же недавно был день рожденья. Зайдём в паб?
В пабе Дороти развернула галстук, чтобы я оценил его красоту. Галстук был широкий, с ладонь, и ярко-бирюзовый. По шёлковой морской глади взадвперёд ходили гондолы.
– Ну как?
– Чудесно. Это будет главная вещь в моём гардеробе.
– Что-то я хотела тебе очень важное сказать…
Принесли два холодных бокала – Дороти пиво, мне лагер.
– Мы ещё сегодня должны успеть в Большой зал, помнишь?
– Ты это хотела сказать?
– Нет. Честно говоря, не это.
Лицо у Дороти стало таким серьёзным, что я немедленно вспомнил об исключительной значимости системы образования.
Она помолчала. Можно было не сомневаться, что сейчас для затравки прозвучит какой-нибудь ультраправильный тезис.
– Я считаю, в отношениях двух людей самое важное – это доверие. Ты не будешь с этим спорить?
– Не буду.
– Вот смотри. Мой дом стоит примерно триста тысяч фунтов. Сейчас, может быть, уже триста двадцать.
– Так.
– На банковском счёте лежит столько же. Чуть больше трёхсот.
– Дороти, зачем ты мне это говоришь?
– Ну, чтобы ты знал.
– Для чего мне это знать?
– Если ты, допустим, переезжаешь в Англию, ты должен быть уверен в завтрашнем дне. Правильно? И если вдруг со мной случается что-нибудь ужасное, других наследников, кроме тебя, не будет. Наследником станет муж. А если, например…
– Подожди. Прости меня за тупость. Ты предлагаешь, чтобы мы с тобой понастоящему поженились?
Вот тут она смутилась. Смутилась так, что все веснушки на лице смешались в один невыносимо румяный налив.
– Мы можем заранее договориться – понастоящему или только официально, для проформы. Как захотим.
Я готов был убить себя за этот вопрос, но всётаки я его задал:
– Дороти, зачем тебе это нужно?
– Допустим, я хочу, чтобы ты мог уехать из вашей гиблой страны.
– Сама ты гиблая.
– Извини. Есть и другие причины.
– Какие другие?
– Это гораздо труднее сказать, совсем личное.
– Совсем плохое? Тогда говори, чего уж там.
– Тогда скажу. Я по твоей вине первый раз в жизни кончила, причём дважды. В общем, обнаружила, что я женщина.
Даже не знаю, кому в такой ситуации проще: человеку с веснушками или без них.
– Ты уже допил? Пойдём в Главный зал.
На улице меня поразило, насколько свободно и охотно городок отворяется навстречу, соглашается стать моим; эту же изумительную приветливость, готовность впустить я ощущал едва ли не в каждом закоулке южноанглийской провинции. Кажется, первый раз я позволил себе плыть по течению: река сама знает, куда несёт. Но где-то чуть ниже диафрагмы, под ложечкой, у меня бултыхался корявый булыжник с неровными острыми краями, сгусток печали и страха, как будто мне предстояла операция по удалению жизненно важных органов, после которой, если выживу, я точно стану кем-то другим.
Каменный зал постройки тринадцатого века был тёмным, просторным и совершенно пустым, если не считать одного-единственного предмета, впрочем, достаточного, чтобы задеть воображение. На грубой, рустованной стене висела шестиметровая столешница – Круглый стол короля Артура, похожий на гулливерскую мишень для игры в дартс.
Задетое воображение тут же, в считаные минуты, поставило стол на середину зала и выпустило на сцену самых блестящих рыцарей, каких только можно вообразить. Они расселись вокруг стола по случаю внезапного прибытия Ланселота Озёрного.
«О! – промолвил Эктор Окраинный. – О! Сдаётся мне, этот рыцарь страшно могуч. Клянусь небом, сэр Ланселот Озёрный даже посильнее будет, чем сэр Кэй!»
Ему дерзко и по существу ответил Ламорак Уэльский.
«Ха, – молвил он. – Ха! Я самолично лицезрел, как сэр Ланселот Озёрный одним ударом копья свалил на землю сразу четверых!»
Тут нарушил молчание сэр Тристрам Лионский, суровый, но справедливый: «Я знаю трёх великих рыцарей в подлунном мире. Это Персиваль, Бламур Ганский и сэр Ланселот, величайший из них».
«А почему же, сэр, вы не назвали сэра Тристрама?» – спросил его Эктор Окраинный.
«Я не знаю сэра Тристрама», – сурово молвил сэр Тристрам.
Ну, и прочие подростковые понты для всех времён и народов.
В зале, как в огромной шкатулке, хранились прохлада и тишина. Мы сели на массивную деревянную скамью возле дальней стены, и я снова достал камеру. Это была старая аналоговая видеокамера, ещё без дисплея; чтобы снимать или посмотреть снятое, нужно было прислониться голым глазом к видоискателю. Я стал перематывать плёнку в режиме просмотра и вдруг заметил, что по ошибке захватил из дома не ту кассету – не чистую, а уже использованную, занятую моими домашними любительскими записями, в том числе кадрами с близкими людьми. Значит, получилось так, что я снимал поверхпрошлого, стирая предыдущую жизнь ради сегодняшней английской прогулки.
На фоне нарядного городка музыкант в клетчатом шарфе задал на саксофоне свой клинический вопрос: «А если это был не я? А-а?..», отвернулся влево, и сразу после него, буквально встык, без малейшего зазора, тяжело зашевелилась пасмурная, невзрачная зима за кухонным окном, побежала коротконогая дворняга, утопая по самое брюхо в уличной грязи, рыжий подслеповатый абажур качнулся над семейным застольем. Там была Марина, были Алина с Юлькой, была Елена; сидели, как новобрачные, рядышком Николай Иванович и Валентина Павловна, ещё смеющиеся и живые. Были Валера и Женя, Алек и Сергей. Была девочка Кося, танцующая ночью на людной площади одна.
Очевидно, я просто забылся, пока подглядывал в камеру, и спустя минут пять застиг себя с идиотской счастливой улыбкой. Моя спутница что-то поняла, встала и вышла, ни слова не говоря.
Я досмотрел до того момента, когда в рассеянном фокусе застряли цветочки со старых советских обоев; потом наконец оторвался от видоискателя, в последний раз оглядел пустой зал и тоже пошёл во двор.
Уже выходя, я зачемто включил запись, почти машинально, и теперь благодаря этой бесцельной съёмке немыслимо долго, пока не обессилит, не размагнитится плёнка, по мокрому сияющему газону будет расхаживать, утробно бормоча, перламутровый голубь, а возле каменной стены будет стоять Дороти – лицом к стене, как наказанная, с непривычно сгорбленной спиной.
Хотя на самом деле говорить о наказании было бы уместнее в отношении меня. Но именно в тот день я испытал колоссальное облегчение, как будто приговорённый к удалению органов подслушал тайну некоего консилиума и случайно выяснил, что операция отменяется: она не нужна.
Следующим вечером я улетал в Москву. По дороге в Хитроу мы не произнесли ни слова, но я мысленно благодарил Дороти за молчание. Достаточно было краем уха слышать радио и вдыхать ветер, залетающий в окна машины.