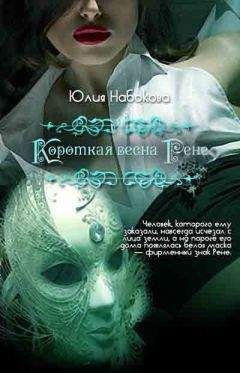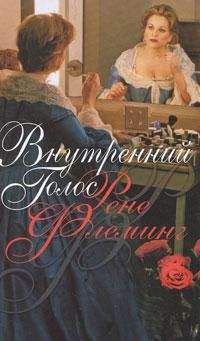Бледные круглые глаза, огромные из-за толстых линз, наткнулись на меня, не выразив при этом никакого удивления.
— Мистер Ишервуд? Очень рад, что вы пришли. Вы незнакомы?
Он не потрудился даже привстать. Зато Бергманн с неожиданной прытью вскочил из-за стола. Совсем как Панч из-за кулис. «Горестный какой-то Панч», — почему-то мелькнуло у меня. Когда мы обменивались рукопожатием, я невольно улыбнулся: нас не надо было представлять друг другу. Бывают встречи-узнавания. Наша была из таких. Мы, без сомнения, знали друг друга. Имя, голос, черты лица не имели значения. Мне было знакомо это лицо. Лицо нашего времени, лицо эпохи. Лицо Европы.
Уверен, Бергманн думал о том же.
— Рад познакомиться, сэр, — последнее слово он произнес с еле уловимой иронией. Мы постояли пару секунд, изучая друг друга.
— Садитесь, — приветливо пригласил Чатсворт.
Возвысив голос, он подозвал официанта:
— Garçon, la carte pour monsieur![11]
На нас начали оглядываться.
— Очень рекомендую Tournedos Chasseur,[12] — тоном знатока добавил он.
Я выбрал первое, что попалось на глаза, а именно — нелюбимую мною Sole Bonne Femme,[13] исключительно чтобы продемонстрировать, что не хуже его разбираюсь в меню. Чатсворт заказал себе шампанское.
— Никогда не пью ничего иного до заката.
Он доверительно сообщил, что знает в Сохо местечко, где подают какой-то особенный кларет.
— На прошлой неделе взял по случаю шесть дюжин бутылок на аукционе. Я поспорил со своим дворецким, что разыщу нечто получше, чем то, что хранится в моем погребе. И представьте, этот пройдоха признал, что я прав. Не забыть бы заставить его раскошелиться.
Бергманн тихо фыркнул. Вперив пронзительный взгляд в Чатсворта, он изучал его с таким пытливым вниманием, что любой другой уже потерял бы дар речи. Поглощая еду с какой-то лихорадочной поспешностью, Бергманн ухитрялся при этом курить. Чатсворт же ел не спеша и очень сосредоточенно, изрекая после каждого проглоченного куска очередную сентенцию. Рука Бергманна, сильная, поросшая волосами, без обручального кольца, покоилась на столе. Он держал сигарету, как указующий перст, нацелив ее Чатсворту прямо в грудь. Великолепной формы голова, казалось, была высечена из гранита умелым скульптором. Голова римского цезаря с темными глазами азиата. Ему совершенно не шел тесный, неопределенного цвета костюм. Воротник рубашки душил его. Узел нелепого галстука сбился набок. Я исподтишка любовался его мощным, решительным подбородком, глубокими морщинами, спускающимися из-под внушительного носа, из которого торчали черные волоски, к мрачной полоске рта. Лицо цезаря с темными, насмешливыми глазами раба — раба, который повинуется потешаясь, который оценивает своего господина, подтрунивает над ним и — судит его. Судит господина, которому не дано понять своего раба. Господина, который, сам того не зная, всецело зависит от него, вечно ищет его одобрения, восхищения, советов, а в конечном счете — разрешения пользоваться своей властью. Разрешения раба, сочиняющего басни о тварях божьих.
От обсуждения вин Чатсворт плавно перешел на прелести Ривьеры. Бывал ли Бергманн в Монте-Карло? Тот отрицательно мотнул головой и что-то невнятно пробурчал в ответ.
— В Монте мое духовное прибежище. Вот к Каннам я совершенно равнодушен. А в Монте есть je ne sais quoi.[14] Каждую зиму срываюсь туда дней на десять. Что бы ни случилось. Просто срываюсь с места и еду. Смотрю на это как на вложение денег. Без Монте я бы попросту не выдержал этого убийственного лондонского тумана с его вечной моросью. Свалился бы с гриппом или еще какой-нибудь гадостью. Провалялся бы месяц в постели. А так вот он я, говорю я им, и пусть скажут спасибо. Garçon!
Никого не спросив, он заказал на всех Crêpes Suzette[15] и стал убеждать нас, что он напрочь лишен азартности.
— С меня хватает игрищ в кино. Рулетка — развлечение для дураков. Годится только для детей и старух. А вот в чемми[16] сыграть не прочь. В прошлом году просадил пару тысяч. Моя супруга предпочитает бридж. Я смеюсь, что в ней говорит островитянка до мозга костей.
Бергманну с его английским, наверное, непросто было улавливать нить разговора. Выражение его лица становилось все более загадочным. Даже Чатсворт почуял что-то не то. Он сообразил, что внимание слушателей вот-вот ослабеет, и сделал следующий ход. Позвал метрдотеля, чтобы отдать должное Crêpes Suzette.
— Передайте Альфонсу мое восхищение, сегодня он превзошел сам себя.
Метрдотель знал, как вести себя с этим завсегдатаем, и склонился в глубоком поклоне.
— Для вас, мсье, всегда пожалуйста. Для такого ценителя, как вы, не грех и расстараться… Кто-кто, а вы знаете толк…
Чатсворт расцвел на глазах.
— Жена говорит, что я красный. А что делать? С души воротит, когда посмотришь, как некоторые обращаются с прислугой. Никакого уважения. Особенно к шоферам. Словно они не люди! Эти хваленые снобы могут загонять человека до смерти. Будят в любое время суток. Никакой личной жизни. Я держу трех слуг, хотя это и обходится мне в копеечку: двое днем, один — ночью. Жена донимает, чтоб я одного уволил. «Либо все останется как есть, либо тебе придется самой садиться за руль», — говорю я ей. А на это она не пойдет никогда. Женщины — никудышные водители. Моя, по крайней мере, хоть признает это.
Принесли кофе, и Чатсворт выложил на стол роскошный сафьяновый, ручной работы ящичек для сигар размером с карманную Библию. Не преминул сообщить, что каждая сигара обошлась ему в пять фунтов и шесть пенсов. Я отказался, а Бергманн, скорчив мрачнейшую гримасу, прикурил одну.
— Попробовав их однажды, вы уже никогда не сможете курить ничего другого, — шутливо предостерег его Чатсворт и любезно добавил: — Завтра я пришлю вам такую же коробку.
Сигара каким-то непостижимым образом довершила облик Чатсворта. Попыхивая ею, он будто становился больше ростом. Тусклые глаза горели мистическим пламенем.
— Я уже много лет мечтаю воплотить один замысел. Вы будете смеяться. Все смеются. Говорят, что я спятил. Но мне все равно. — Он выдержал паузу. И лишь потом торжественно закончил фразу: — Снять «Тоску». С Гретой Гарбо.
Бергманн обернулся и бросил на меня быстрый, загадочный взгляд. Потом резко выдохнул. Так, что дым от сигары окутал голову Чатсворта. Тот выглядел довольным. Именно такой реакции он и ждал.
— И само собой, никакой музыки. Меня интересует сама идея. — Он немного помолчал, явно ожидая возражений. Их не последовало.
— Это потрясающая вещь. Никто этого не понимает. Бог ты мой, как это прекрасно!
Опять пауза.
— Знаете, кому я хочу заказать сценарий? — По тону Чатсворта было ясно, что главный сюрприз он приберег про запас.
Молчание.
— Сомерсету Моэму.
Наступила гробовая тишина, прерываемая только дыханием Бергманна.
Чатсворт сидел с видом человека, бросившего вызов всему свету.
— А если с ним не удастся договориться, я не стану ее делать.
Меня так и подмывало спросить, в курсе ли этих планов сам Моэм, но я понимал, что подобное любопытство в данный момент неуместно. Наши с Чатсвортом взгляды пересеклись, и я неловко улыбнулся.
Как ни странно, Чатсворт остался доволен. Он истолковал мою реакцию по-своему, и неожиданно его лицо тоже расплылось в ответной улыбке.
— Спорим, я знаю, о чем думает Ишервуд, — обратился он к Бергманну. — Он прав, черт побери! Сознаюсь! Да, я сноб, но очен-н-о неглупый сноб.
Бергманн вдруг стрельнул в меня глазами. Ну наконец-то, подумал я, он раскроет рот. Черные зрачки сверкнули, губы шевельнулись в непроизнесенном слове, руки дернулись в излучине жеста.
— Привет, Сэнди, — донеслось из-за спины Чатсворта.
Я обернулся и обомлел: возле столика стоял Эшмид. Ничуть не изменившийся за десять лет, не утративший ни привлекательности, ни стати. Шевелюра цвета жженого янтаря. До боли знакомый небрежный шик: спортивная куртка, шелковый пуловер, фланелевые брюки.
— Сэнди — редактор нашего сценарного отдела, — сообщил Чатсворт. — Упрям как мул. Шекспира перепишет, если что не по нему написано.
Эшмид тонко, по-кошачьи улыбнулся.
— Привет, Ишервуд, — поздоровался он как ни в чем не бывало, хотя явно не ожидал меня здесь встретить. Ему никогда нельзя было отказать в выдержке.
Мы в упор посмотрели друг на друга.
Какого черта ты тут делаешь, чуть не ляпнул я. Сказать, что я удивился, значило не сказать ничего. Эшмид — поэт. Эшмид — гордость Общества друзей Марло. В его лице я уловил, что мое смятение не прошло незамеченным. Но насмешливые золотистые глаза оставались непроницаемыми.
— Вы знакомы? — удивился Чатсворт.
— Учились вместе в Кембридже, — бросил я взгляд на Эшмида.