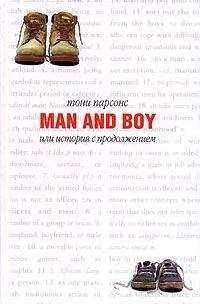Позже в тот же солнечный субботний день, как раз когда происходящее начинало казаться Леону галлюцинацией наподобие тех, которые он видел после очередной дозы ЛСД в аудиториях Лондонской школы экономики, он остановился перед витриной магазина электроники на Оксфорд-стрит. По всем телевизорам одновременно показывали новости. Бунт был главной и единственной темой дня. В Левишэм стеклась четверть всех сил городской полиции Лондона, но и им было не под силу остановить демонстрантов.
Леон задумался. Интересно, пошел ли хоть кто-то из читателей «Газеты» в Левишэм, прочитав пару жалких абзацев, которые он написал? Принесли ли они хоть какую-то пользу? Интересно, будут ли говорить о — здесь Леону пришлось обратиться к собственной статье — «Левишэмской кампании по борьбе с расизмом и фашизмом»? Но, перевернув страницу и увидев колонки рекламных объявлений, он спустился с небес на землю. Вот чем интересуются читатели!
«ХОТИТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ЖИТЕЛЬ СКАНДИНАВИИ? Скандинавские башмаки — £5.50… Рубашки из сетчатой ткани за £2.70 плюс 20 р. за почтовую пересылку и упаковку… Хлопковые брюки клеш. Облегающие расклешенные тренировочные брюки из хлопка отличного качества. Всего за £2.60».
Мысли Леона неохотно обратились к теме моды. Интересно, подумал он, кто носит этот хлам? Сам Леон походил на коротковолосого панка — американский прообраз на британский манер. Всем своим видом юноша словно заявлял: «Я стараюсь, но не особенно».
Лицо и фигура Леона не слишком сочетались с агрессивным стилем его одежды. В свои двадцать он все еще обладал хрупким мальчишеским телосложением и выглядел так, словно ему приходилось бриться всего лишь раз в неделю.
К отвороту его байкерской куртки был приколот пластмассовый значок, на котором был изображен профиль Владимира Ильича Ленина а-ля Джимми Хилл. Другими предметами одежды Леона являлись брюки-дудочки от «Ливайс», потертая футболка с символи- кой группы «Син лиззи» и белые адидасовские кроссовки с тремя синими полосками сбоку. Летом 1977 года это была стандартная экипировка просвещенного городского жителя мужского пола. В данном случае картину дополняла фетровая шляпа, купленная в благотворительном магазине. Забавно, что на рекламных страницах «Газеты» такая одежда до сих пор не фигурировала — только какие-то пережитки шестидесятых.
«Ювелирные украшения в форме листьев конопли. Массивный кулон из чистого серебра на серебряной цепочке (46) — £7».
Леон отложил «Газету» и покачал головой. Затем поправил шляпу. Будто ничего не изменилось! Словно и нет никакой войны!
Леону казалось, что все, кого он знал, увязли где-то в шестидесятых. Люди, с которыми он работал в «Газете», читатели, его отец — да, особенно его отец! Прежде этот человек на протяжении нескольких лет являлся участником Движения за ядерное разоружение, а теперь стал членом клуба любителей гольфа.
Что с ними творится? Разве они не понимают, что пора занять твердую позицию? Почему, по их мнению, Национальный фронт устроил демонстрацию в Южном Лондоне? Леон снова потрогал ссадину на щеке. Хорошо бы она осталась на всю жизнь!
И это не имело никакого отношения к стилю — выбору между длинными и короткими волосами, расклешенными штанами и прямыми, Элвисом и Джонни Роттеном. Это касалось гораздо более принципиального выбора — не между Национальным фронтом и Социалистической рабочей партией, этими экстремистскими группировками, которые разрисовывали весь город противоборствующими лозунгами, — но выбора между злом, ненавистью, расизмом, ксенофобией, фанатизмом и всем тем, что этому противостояло.
Леон до сих пор дрожал от страха, вспоминая Левишэм. Камни, летящие в демонстрантов. Лица, искаженные ненавистью. Полицейские, наносящие удары дубинками, ботинками или коленями. Рукопашная схватка, завязывающаяся всякий раз, когда какой-нибудь демонстрант прорывался через ряды полицейских, — мелькающие в воздухе кулаки и подошвы. И лошади, гадящие от страха, когда их направляли в ряды демонстрантов. Леон знал, что чувствовали те лошади. События в Левишэме стали для него первым актом насилия, участником которого он был, со времен драки на школьной спортплощадке. Тогда он потерпел поражение.
Все-таки, подумал Леон, для своих девяти лет она была очень большой девочкой.
Юноша продолжал перебирать пластинки, пока не нашел нечто действительно стоящее. «Совсем не занят» от «Секс пистолз». Он поставил пластинку на проигрыватель, опустил иглу и отвел ручку для повторного воспроизведения. Когда из динамиков донеслись прерывистые звуки гитарного соло, Леон решил уничтожить все оставшиеся пластинки. Джексоны, Донна Саммер, «Хот чоклит», Карл и Саймон и «Бразерхуд ов мэн» — все они полетели навстречу своей смерти, к противоположной стене комнаты. Все эффектно погибли в красочном взрыве винила.
Леон уже было собирался поставить «Бони Эм», когда дверь в комнату открылась. На пороге появился пожилой негр-уборщик с пылесосом в руках. Открыв рот, он уставился на осколки винила, разбросанные по всему ковру.
— Господи! Что ты тут творишь, парень?
— Сортирую пластинки, — ответил Леон, залившись краской от смущения. — Я как раз собирался все убрать.
Под пристальным взглядом уборщика Леон опустился на четвереньки и стал подбирать с пола осколки разбитых пластинок. Его губы застыли в улыбке, в которой, как он надеялся, читалась солидарность и некое подобие просьбы о прощении.
— Я надеюсь, ты любишь карри, — сказала мама Терри.
— Я просто обожаю карри, — воскликнула Мисти. — Вообще-то мой папа родом из Индии!
Терри бросил взгляд в ее сторону. Он не знал, что отец его девушки родом из Индии. Похоже, ему вообще мало что было известно о Мисти, хотя они встречались с прошлого Рождества.
Мисти, Терри и его родители теснились в крошечной прихожей. Мисти произносила какую-то восторженную тираду о достоинствах английского владычества и цитировала Киплинга, который описывал, как надо готовить курицу в соусе тикка масала. Она все лепетала, а родители Терри только вежливо улыбались. Отец забрал у Мисти из рук сумку с камерой. Терри успел заметить, как девушка отстегнула наручники и запихнула их в сумку. Это было ее первое появление в его доме, и все очень старались. Мисти включила все свое очарование, отец Терри надел рубашку, а его мама ради такого случая подготовила особое меню. Терри в свою очередь не принес домой свое белье для стирки.
Компания расположилась в гостиной. По телевизору шел какой-то старый фильм. Несколько мгновений все внимание собравшихся было приковано к экрану. Тони Кертис и Сидни Пуатье — белый расист и гордый негр сбежали с каторги и все еще были прикованы друг к другу наручниками.
— Это «Скованные одной цепью», — нарушила молчание мама Терри. — Какой же он был красивый, этот Тони Кертис.
— Я выключу, — сказал отец. Явный знак того, что в гостях королевские особы. Обычно родители Герри не выключали телевизор до тех пор, пока он сам не отсылал их спать.
— Что говорил Труффо о жизни до изобретения телевизора? — произнесла Мисти, и ее милое личико вдруг стало сосредоточенно-хмурым.
— Что-то не помню, дорогая. — Мама Терри отреагировала так, словно ее попросили вспомнить название последней пластинки Дес О’Коннор, которое она знала назубок.
— Он говорил, что до того, как было изобретено телевидение, люди смотрели на огонь. Мисти выглядела крайне серьезной. Она всегда становилась серьезной, когда цитировала высказывания одного из своих кумиров. — Он говорил, что человек всегда испытывал потребность в двигающихся картинках.
Какое-то время они все над этим поразмышляли.
— Коктейльные сосисочки? — Мама Терри протянула тарелку, на которой лежали наколотые на деревянные шпажки сморщенные свиные сардельки. — Возьми две, дорогая. Они совсем крохотные!
Терри подумал, как странно видеть Мисти на коричневом диване в гостиной этого оштукатуренного дома, в котором он вырос. Когда Терри был совсем еще ребенком, его отец работал на трех работах, чтобы вытащить семью из съемной квартирки над мясной лавкой и купить собственное жилье. Но дом, который был просто мечтой для его родителей, должно быть, казался весьма скромным такой девушке, как Мисти.
Тисненые обои, пианино в углу и оранжевый ковер от стены до стены, который выглядел так, словно пережил кошмарную автокатастрофу. Пуфики под цвет ковра — на них родители клали ноги, когда читали «Ревелле» (мама) и «Ридерз дайджест» (папа). Мисти примостилась посередине того, что они называли «канапе», в том месте, которое они называли «гостиной». И собиралась угощаться тем, что они называли «большим чаем».
Как все странно! Гостиная, канале, большой чай — казалось, что его родители говорили с Мисти на каком-то другом языке.