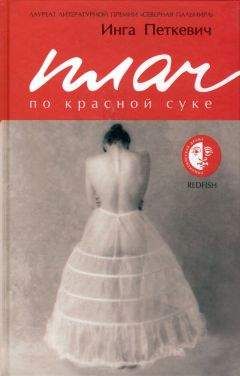На днях, тринадцатого сентября, под вечер, я как раз картошку чистила. Вдруг за окном как шарахнет! Ну, думаю, все — началось! Тут еще раз бабахнуло. Ага, салют. Но вот по какому случаю салютовали — три дня узнать не могла. Никто не знал. Потом оказалось, что это День танкиста праздновался. Когда и взаправду шарахнет, мы, наверное, примем это за салют и покинем сей мир в праздничном настроении.
За эти юбилейные годы были окончательно пропиты внутренние ресурсы страны: трудовые навыки и национальное самосознание. Нравы, обычаи, устои и дух нации — все, благодаря чему народ выдержал и революцию, и лагеря, и войну, и разруху, и культ, — все это окончательно было истреблено повальным, официально узаконенным пьянством. Нация деградировала и перестала ощущать себя нацией. Только русофильствующие писатели еще что-то вещали в похмельную пустоту.
За общим столом ты держалась крайне замкнуто и нейтрально. Никогда не напивалась, не выступала, не скандалила. Сидела себе смирно и вязала что-нибудь для ребенка. И все-таки твое присутствие стесняло наше разнузданное застолье. Казалось, ты исподтишка наблюдаешь за нашими дикими нравами.
Почему-то ты всегда располагалась в дальнем углу стола, и уголок этот выглядел как-то особенно элегантно и обособленно. Все твои личные вещи: салфетка, красивая тарелка, чашка, мельхиоровая рюмочка, ложка, вилка, тонкий стакан, складной перламутровый ножик — все выглядело крайне изысканно и будто служило наглядным упреком нашему хамски сервированному застолью: газетам на канцелярских столах, консервным банкам, вскрытым по-женски грубо и коряво, всей нашей битой, треснутой, разномастной посуде — пластмассовым стаканам и эмалированным кружкам, жестяным тарелкам, гнутым алюминиевым ложкам и вилкам, — этим случайным бросовым предметам, то ли краденным из общепитовских столовок, то ли списанным, изгнанным из домашнего быта ввиду своего явного уродства и профнепригодности. Большинство наших баб пользовалось на службе именно такими ископаемыми черепками.
А путного ножа в нашем коллективе почему-то и в помине не было. Всегда приходилось обращаться к тебе, и ты с явной неохотой доставала и вручала нам свой перламутровый складной ножик. И каждый раз, прежде чем использовать нож по назначению, мы изумленно разглядывали изящную безделушку. Разглядывали и удивлялись: зачем таскать на службу такой красивый предмет? Его и украсть могут, и вообще… В этом «вообще» заключалась вся служебная этика и психология. На службе носили — то есть донашивали — самые страшные бесформенные тряпки и стоптанную обувь, линялое белье и рваные чулки. Донашивали какие-то пожелтелые нейлоновые блузки, бесформенные юбки, явно перешитые из старых пальто, почему-то всегда коротковатые, хотя ноги наши отнюдь не отличались красотой.
Бабы исправно заботились, чтобы у каждой было все не хуже, чем у людей. Они справляли себе новые кримпленовые костюмы, импортные сапоги, пальто с норочкой. Хвастаясь своими обновками, они приносили их на службу показать, а потом уносили навсегда, чтобы через много лет, когда вещь выйдет из моды, донашивать ее на той же службе. Они проводили на работе большую часть своего времени. Там они постоянно сталкивались с молодыми подтянутыми военными, но вот наряжаться на службу почему-то считалось почти зазорным и неприличным. А если молодые порой допускали подобные излишества, на них косились осуждающе: «Тоже мне, нашла где выпендриваться!»
Подразумевалось, что у каждой из них имеется другая жизнь, где они щеголяют подтянутые, стройные, нарядные и красивые. Такой особой жизни у них не было, они о ней только мечтали. Но они настолько привыкли подменять реальность своими мечтами, что больше заботились об атрибутах и аксессуарах этой неопределенно-фантастической жизни и презрительно отвергали вполне конкретную реальность.
Они скупали за бешеные деньги похабный хрусталь, жуткие ковры, блестящие серванты. Вся эта дрянь ни капли не украшала их нищую, бездарную жизнь, но без этих предметов «роскоши» они чувствовали себя обделенными и неполноценными. Они могли месяцами голодать, чтобы справить себе золотое кольцо с искусственным рубином, которое сразу же закладывалось в ломбард. Спроси у них, зачем им понадобилось это злополучное кольцо, ответят — что они заботятся о подрастающей дочке. А то, что эта дочка растет беспризорницей и шляется бог знает где, пока мамочка торчит в очередях, — это не доходило до их убогого сознания…
Теперь книги начали скупать. Надо же чем-то заполнять серванты и секретеры. И вот стоят рядом на одной полке Пушкин и Асадов, Гоголь и Чаковский, Достоевский и Пикуль. Да как только шкафы не взорвутся от такого несовместимого соседства!
Не взорвутся ни шкафы, ни их засранные мозги — нечему взрываться, потому что все это — мираж, фикция, блеф. Всеми этими предметами роскоши никто никогда не пользуется. Все это атрибуты чужой, неведомой реальности, загадочной и туманной, как Млечный Путь.
Откуда, например, в нашем быту появилось понятие «сервант», без которого не мыслит свое существование ни одна супружеская чета? Отказывая себе в предметах первой необходимости, они скупают за бешеные деньги этих уродов. Выбрасываются на помойку чудесные бабушкины горки, резные дубовые буфеты, и на их место торжественно водружается эта сомнительная мебель.
Скажете — мода? Но откуда пришла к нам эта мода? Сервантов не было в дворянской литературе, на которой мы выросли. Не было их в шикарной жизни буржуазного кинематографа, где можно подглядеть атрибуты чужого красивого быта, в западной литературе такого предмета тоже не упоминалось. В современных журналах с интерьерами можно наблюдать нечто подобное, но там тоже не серванты, а скорей шкафы, пригодные для использования в любых целях. Нет, сервант даже не мебель, сервант — понятие. Семья ютится в одной комнате, письменный стол негде поставить, на ночь раскидываются раскладушки, дети делают уроки на обеденном столе, бабушка спит в прихожей на сундуке, а сервант красуется в центре комнаты, набитый пес знает какой дребеденью.
Может быть, это разновидность домашнего алтаря? Но нет, ни одной семейной реликвии там не обнаружишь. Скорее всего, сервант — это показушный, абсурдный символ семейного благополучия, не более нелепый, чем все эти идиотские павильоны ВДНХ, которые своей безвкусицей не прикрывают, а лишь подчеркивают убогую нищету нашей жизни.
И вот сидим мы все вместе за праздничным столом, накрытым в канун Великого Октября. Канцелярские столы покрыты газетами, сервированы гранеными стаканами, чашками без ручек, алюминиевыми вилками, пластмассовыми тарелками — вот они, драгоценные черепки нашего подлинного быта, именно из такой посуды мы привыкли питаться.
Цветов нам преподнесли предостаточно, но ни одной даже битой вазочки в обиходе не нашлось. Цветы красуются в бутылках из-под молока. Вместо пепельниц консервные банки. Но мы довольны нашей сервировкой, мы очень любим служебные сабантуи.
Бывают, конечно, еще и домашние, семейные праздники, где выставляется заветная посуда и стол накрывается белой скатертью. Но мы так выкладываемся по случаю семейных торжеств, что нам не только праздник — нам уже белый свет не мил.
Ну бывает еще — кто-нибудь в гости пригласит. Там другие заботы. Наш муж, жених или попутчик так надерется, что весь вечер только с ним одним и провозишься…
Нет, повторяю, сабантуи — это единственные праздники, где мы можем расслабиться, потолковать о своих делах, выпить и закусить в собственное удовольствие. Мы обожаем наши служебные застолья: чем больше их запрещают, тем больше мы их ценим. Стоит посмотреть, сколько вкусных вещей приносится из дома: тут и пироги с грибами, мясом и капустой, и салаты разнообразные, и торты домашней выпечки, и водочка, настоянная на всяких травках, — что еще можно желать от жизни?
Все мы принарядились по случаю Великого Юбилея. Почти на всех кримпленовые костюмы самых ядовитых тонов и расцветок — мы будем донашивать их до самой смерти. Фамильные драгоценности по праздникам обычно выкупаются из ломбарда и напяливаются на себя все разом — чем больше, тем лучше. На ногах у нас новенькие выходные туфельки, которые — о чудо! — после тридцатилетнего перерыва заново вошли в моду. Наши головы украшают немыслимые, залитые лаком башни-начесы — излюбленная прическа египетских фараонов, — которые держатся на голове с полгода и постепенно сходят вместе с волосами, после чего надо приобретать парик.
Чинно и торжественно расселись мы вокруг праздничного стола. Глаза горят, щеки пылают, мы нетерпеливо тянемся за рюмкой… Тост за здравие… мы радостно улыбаемся друг другу… Чокаемся… Еще раз чокаемся… и понеслось… Мы уже больше не чокаемся. Мы разгорячились, вино ударило в голову, и каждая толкует о чем-нибудь своем, толкует и не слышит соседки, а соседка толкует и не слышит ничего вокруг. Шум, гам, гвалт, как на птичьем базаре. Господи, чего только тут не услышишь! Вон две кумушки толкуют о золоте и о драгоценностях, которыми владели их прабабушки, две другие, разумеется, о хрустале, третьи — о зубной боли, четвертые — о радикулите. Вот две дамы с претензиями на интеллект толкуют об интимной жизни графа Льва Николаевича Толстого. Ну а эти поблядушки обсуждают своих поклонников с их неземными страстями. Девчонки возмущаются, негодуют по поводу какого-нибудь очередного политического скандала. О семье и домочадцах не вспоминает никто, они тут ни при чем. Кое-кто уже пытается петь и плясать, но их одергивают — еще рановато, большинство еще не дозрело до нужной кондиции.