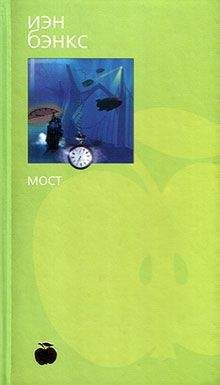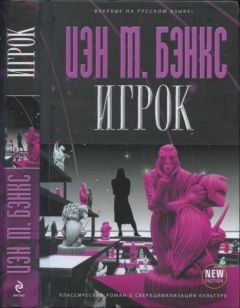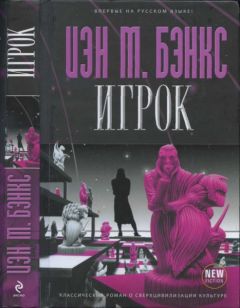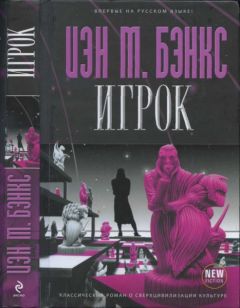Он замер. И я замер. И тут на меня нахлынуло облегчение, я пережил миг невыразимой радости, увидев, что у этого человека — не мое лицо. Оно было квадратным, глаза посажены близко друг к другу и глубоко, а на верхней губе чернели усы. Он глядел на меня, стоя в лучах моих фонарей, как я стоял в его свете; он изучал мое лицо, вероятно, с таким же интересом и облегчением, какие чувствовал я. Я было заговорил, но дальше слов «с кем имею честь?» дело не зашло. Рот незнакомца исторг звуки в то же мгновение, что и мой. Это было какое-то слово или короткое предложение, по всей видимости адресованное мне, как и мои слова предназначались ему. Да, теперь уже я не сомневался, что он говорит на иностранном языке. Но что это за язык, мне пока не удалось определить. Я ждал, когда незнакомец снова заговорит, но он молчал, — видимо, изучал мое лицо.
Мы одновременно качнули головами.
— Это сон, — тихо произнес я, в то время как он бормотал что-то свое. — Этого не может быть, — продолжал я. — Это невозможно! Я сплю, и ты — порождение моего разума.
Мы оба разом замолчали.
Я взглянул на его карету, а он посмотрел на мою. Внешне его экипаж мало отличался от моего. Был ли тот обвязан ремнями, заперт и опломбирован, я не мог судить, равно как и о том, так ли важно его содержимое, как и мой груз.
Внезапно я шагнул вбок, и незнакомец двинулся в то же мгновение, как будто хотел преградить мне путь. Мы отступили друг от друга. Я уже чувствовал его запах, какую-то непривычную, резкую парфюмерию, с примесью несвежего запашка иноземной пряности или луковичного растения. У него чуть сморщилось лицо, словно и от меня повеяло чем-то не особо приятным. Отчего-то у него дернулась бровь, я вспомнил о револьвере. В мозгу разыгралась абсурдная сцена, как мы выхватываем оружие и стреляем и пули сталкиваются между нами в воздухе, расплющиваются в идеально круглую монету. Мой несовершенный двойник улыбнулся, точно так же поступил и я. Мы покачали головами. По крайней мере, этот жест не нуждался в переводе, хотя мне пришло в голову, что медленный задумчивый кивок был бы столь же уместен. Мы отступили на шаг и дружно оглядели безмолвную, стылую, дикую местность, как будто в самом этом запустении кто-нибудь из нас мог найти что-то ободряющее, или даже оба.
Я ничего ободряющего не увидел.
Каждый из нас повернулся, подошел к своей карете и забрался на козлы.
Некоторое время смутный силуэт сидящего во мгле за неровным сиянием фонарей человека не шевелился (наверное, в точности как и я). Затем он безнадежно пожал плечами (как и я), ссутулился, одной рукой взял вожжи — стариковским, как мне показалось, движением (а я всему этому подражал, и на меня тоже нахлынули старческая тоска, усталость и тяжесть, а холод — не чета холоду ветра — пронизал все мое тело).
Он осторожно потянул вожжи, заставив коней запрокинуть головы; такой же сигнал и я дал своей упряжке. Мы начали разворачиваться, каждый на своей половине тесного разъезда, подавали свои кареты то вперед, то немного назад и свистели коням.
«Когда мы окажемся вровень, — подумал я, — как боевые корабли сходятся бортами, я выхвачу оружие и выстрелю». Возвращаться я не могу, и если он не уступит дорогу, то буду прорываться с боем, потому что у меня нет выбора.
Наши неуклюжие колесницы медленно маневрировали. Его карета, как и моя, была наглухо заперта и крепко обвязана. Он посмотрел на меня и неторопливо, почти расслабленно, сунул руку за отворот пальто. Точно так же действовал и я — запустил ладонь во внутренний карман сюртука и осторожно потянул револьвер. Снимет ли недруг сейчас перчатку? Мы оба ждали. Наконец он расстегнул перчатку на запястье, как и я, положил ее рядом с собой на сиденье, а затем навел на меня оружие.
На спусковые крючки мы нажали одновременно. Раздались два тихих щелчка, больше ничего.
Мы дружно отщелкнули барабаны. В свете фонаря я увидел, что боек бил по капсюлю — на медной поверхности осталась крошечная вмятина. Либо капсюль бракованный, либо порох отсырел. Такое не редкость.
Незнакомец посмотрел на меня, и улыбки наши были печальны. Оба спрятали револьверы в карманы, затем окончательно развернули кареты и разъехались; я повез свой страшный груз обратно в долину, под облачный покров, а он свой — в другую долину.
— …И тогда мы разом стреляем, вернее, нажимаем на спуск, и ничего не случается. Оба патрона оказались негодными. Поэтому мы просто… улыбаемся друг другу, с покорностью, наверное, разворачиваем кареты и едем восвояси, — заканчиваю я свой рассказ.
Доктор Джойс глядит на меня поверх золотой оправы очков:
— Это и есть ваш сон?
Я киваю:
— И тут я проснулся.
— И все? — проявляется раздражение в голосе Джойса. — Больше ничего не было?
— На этом сон закончился, — твердо произношу я.
На лице доктора Джойса отчетливо видится недоверие (и вряд ли можно строго судить за это моего лечащего врача, ведь все вышеизложенное — сплошное вранье), он качает головой, и трудно объяснить этот жест чем-либо иным, кроме недовольства.
Мы стоим в центре зала о шести черных стенах, но без мебели. Это теннисный корт, и близится конец гейма. Доктор Джойс — джентльмен лет пятидесяти, в неплохой физической форме, хоть и чуть полноватый, — считает, что лечение можно проводить в любой обстановке. Оба мы умеем махать ракетками, поэтому предпочитаем играть здесь, а не сидеть в его кабинете. В перерывах между розыгрышами очков я рассказываю свои сны.
Доктор Джойс румян и сед. Выбеленные временем кудри, розовое лицо, розовые же, с веснушками и седыми волосками, руки и ноги торчат соответственно из рукавов рубашки и штанин серых шорт. Однако глаза, прячущиеся за очками в золотой оправе и цепочкой, голубые, их взгляд тверд, остер и вовсе не подходит к румяной физиономии. Как будто в шмат сырого мяса на блюде воткнули два осколка синего бутылочного стекла. Он тяжело дышит (в отличие от меня), обильно потеет (а я только в последнем розыгрыше немножко взмок) и глядит на меня с глубоким подозрением (вполне, как я уже сказал, обоснованным).
— Проснулись? — спрашивает он.
Я стараюсь придать своему тону максимум возмущения:
— Да помилуйте, не могу же я контролировать свои сны!
(Это ложь.)
С глубоким профессиональным вздохом врач подцепляет ракеткой пропущенный им в конце последнего розыгрыша мяч и пристально глядит на стенку для подач.
— Ваша подача, Орр, — говорит он кисло.
Моя так моя. Подаю. Теннис — игра для двух игроков. У каждого участника две ракетки: ударная и ведущая. Корт шестиугольный, покрашенный в черное; мячей два, оба розовые. Благодаря сему последнему факту и тяжеловесной разновидности юмора, которая на мосту считается остроумием, теннис прозван «мужской игрой». У доктора Джойса стаж в ней побольше, чем у меня, но мой партнер ниже ростом, больше весит и старше, да и с координацией движений у него похуже. Я играю (по рекомендации физиотерапевта) всего лишь шесть месяцев, но одерживаю верх в последнем розыгрыше, а значит, и в гейме без особого труда, ведя по корту один мяч, пока Джойс неловко возится с другим. И вот доктор стоит, пыхтит и прожигает меня взглядом — воплощенное недовольство.
— Вы уверены, что больше ничего не было? — спрашивает он.
— Вполне, — отвечаю.
Доктор Джойс — толкователь моих снов. Он специализируется на анализе сновидений и верит, что копание в моих кошмарах позволит узнать обо мне больше, чем я сам способен рассказать (у меня амнезия). Он надеется, изучив все добытые с помощью этого метода находки, затем каким-то образом встряхнуть, вернуть к жизни мою усопшую память. Оп-ля! Один могучий скачок воображения — и я исцелен. Вот уже полгода я честно лезу из кожи вон, пытаясь ему помочь в этом благородном деле. Беда в том, что обычно мои сны либо слишком сумбурны и их невозможно восстановить в деталях, либо слишком банальны и просто не заслуживают исследования. В последнее время доктор явно теряет терпение, и я, чтобы его не огорчать, придумал сон. Я очень надеялся, что история о запертых каретах даст доктору Джойсу пищу для его желто-серых зубов, но, судя по его кислой физиономии и вызывающему поведению, я дал маху.
— Благодарю за игру, — говорит он.
— Всегда к вашим услугам, — улыбаюсь.
В душевой доктор Джойс бьет меня ниже пояса:
— Орр, как у вас с либидо? Нормально?
Он намыливает брюшко, я декорирую пенными кругами свою грудь.
— Да, доктор. А у вас?
Добрый доктор отворачивается.
— Я задаю этот вопрос, исходя из профессиональных соображений, — объясняет он. — Мы, медики, считаем, что на сексуальной почве могут возникнуть кое-какие проблемы. Если вы уверены, что… — Голос замирает, Джойс заходит под струи воды — смыть пену.
Чего хочет добрый доктор? Чтобы я ему рекомендации предоставил?
Вымывшись, переодевшись и заглянув в бар при теннисном клубе, мы на лифте поднимаемся на этаж, где расположена клиника доктора Джойса. В сером костюме и розовом галстуке ему удобней, чем в спортивной форме, но он все равно потеет. А мне в брюках, шелковой рубашке, жилете и сюртуке (правда, сейчас перекинутом через руку) свежо и прохладно. Гудит на подъеме лифт — класса «люкс»: кожаные сиденья, растения в горшках. Доктору Джойсу угодно присесть на скамью у стены, рядом с читающим газету лифтером. Врач достает не очень свежий носовой платок и вытирает лоб.