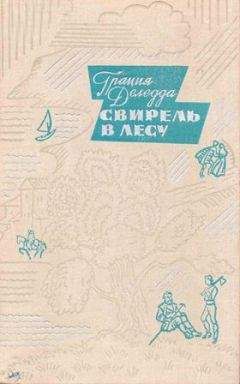Старик, который нагнулся, чтобы срезать пучок вереска, резко выпрямился, будто пробудившись ото сна, и поднес руку к ввалившимся глазам.
— Кто ты, душа из чистилища?..
— А вы разве не видите? Я не из чистилища, я из ада.
— А-а, ты сын Баторе Ликсия! Да благословит тебя бог, сынок! Знаешь, я почти ничего не вижу. Ты вот мне, например, кажешься облаком.
— Что вы тут делаете, дядюшка Паскаль?
— Вереск собираю. А ты уж теперь, наверно, кончил учение, да? — почтительно спросил старик.
— Да нет еще. А на что вам вереск?
Старик застонал и судорожно закашлялся. Отвечал он с трудом, но в его голосе звучали смирение и страх.
— Вереск я отношу в Нуоро на продажу.
— Каждый день?
— Нет, что ты. Прежде, когда мне было лет двадцать — тридцать и когда сил у меня было много, тогда я ходил в город каждый день, а теперь...
И он махнул рукой куда-то вдаль, как будто именно там и остались те давно ушедшие годы.
— Сколько вам лет, дядюшка Паскаль?
— Восемьдесят... нет, шестьдесят девять... погоди... больше...
— Семьдесят девять?
— Вот-вот. Через год будет девяносто.
— Ну, неважно, — одним словом, к сотне вы ближе, чем к двадцати. Правда? И вы всегда были сборщиком вереска?
— Да. А скажи, это правда, что ты служил при дворе короля?
— Нет еще, дядя Паска, может, потом... А вы с кем живете? Вам, кажется, нездоровится?
— Да, я болен, очень болен, сынок. Проклятый кашель... Кажется, будто в груди и горле у меня ходит пила и все пилит, пилит... А ведь я знал твоего отца... Добрый был человек... Ох, опять этот кашель!
— Но почему вы не лечитесь, дядюшка Паскаль? — спросил Ликсия со смешанным чувством жалости и отвращения.
— Чем лечиться-то? Пробовал я носить образок святого Паскаля, пил отвар царской свечи и прикладывал припарки из льняного семени... Чего я только не пробовал! А правду сказать, знаешь, в чем моя болезнь? Это просто смерть моя подходит, вот что!
— Так с кем вы живете? — переспросил студент и, подпрыгнув, уселся на каменную ограду.
Старый сборщик вереска начинал серьезно интересовать его. Ему казалось, что он говорит с мудрым и почтенным представителем какого-то незнакомого племени. А ведь сколько раз, еще до того как он уехал учиться, и позже, приезжая на каникулы, видел он этого старика и сотни и тысячи других представителей этого племени, к которому принадлежал и он сам.
— Сколько лет вы занимаетесь этим делом?
— Давно, очень давно, я же тебе говорил, — сказал старик, повторив тот же неопределенный жест, который выражал далекое прошлое. — Мне было десять лет, когда я впервые пошел в Нуоро продавать вереск; и отец, мой был сборщиком вереска, и сын тоже... С сыном моим случилось вот что: как-то пришлось ему проделать далекий путь; шел он, шел и так устал, что еле передвигал ноги. И тут на каком-то пастбище, видит, пасется лошадь. Он накинул на нее аркан и продолжал свой путь верхом. Ну вот. А в дороге возьми и попадись ему два карабинера: они разыскивали какого-то бандита. «Ты украл эту лошадь?» — спросили они сына. Он сказал: «Нет». Но карабинерам, видать, не хотелось иметь дело с настоящим бандитом, и они вместо него схватили моего сына, связали и отвели в тюрьму.
— Лукавите вы что-то, дядюшка Паскаль! — заметил Ликсия. Но старик не слышал замечания студента, он закашлялся; глаза вылезли у него из орбит, борода покрылась красными нитями кровавой слюны. Когда приступ кашля прошел, он вернулся к прерванному рассказу. Высокий, прямой, с серпом в руке, старик казался символом смерти.
— Святой Франциск милосердный! Что за дьявольский кашель! Ну, так вот... Сын мой умер в тюрьме, когда срок наказания уже подходил к концу. Вот и все. Он оставил мне двоих детей.
— Он был женат?
— Да. Но овдовел. Так вот, остался я с двумя детьми на руках — мальчиком и девочкой. Мальчик ушел с захожим слесарем, и я его больше не видал. А девочка, Мария Анника, нанялась служанкой в дом богача. Да ты его знаешь, это Марк Вирдис. Знаешь такого?
— Черт побери, да это мой дядя! Ну и что?
— Погоди, все расскажу. Так вот, девочка была настоящее золото. Моя единственная утеха, свет очей моих. Только очень легкомысленная. Родила она ребенка от хозяина. Ну, разве она не знала, что Марк Вирдис богач и не может на ней жениться? Помилуй нас, святой Франциск! Господь бог, наверно, простил ее, как и я.
— Где же она теперь? А-а, я, кажется, уже слышал эту историю. Она умерла, да?
— Да, умерла.
— А ребенок? С ним что случилось?
— Он со мной. Но такой непослушный! Сущий бесенок! Не хочет работать, не хочет мне помогать, ну, ни о чем слышать не хочет! Что поделаешь! Самое большое мученье для меня — это думать, что станет с беднягой после моей смерти. Куда он денется, сирота?
— Дядюшка Паскаль, — сказал вдруг Ликсия, осененный внезапным вдохновением. — Не беспокойтесь, жизнь идет вперед. За морем, на материке, люди хотят, чтобы все были равными. Через двадцать, самое большее тридцать лет, а может, и раньше, не станет ни богачей, ни бедняков: все будут работать и жить, не зная нужды. Эти порядки дойдут и к нам в Сардинию. Не беспокойтесь о внуке: когда он состарится, ему не придется, как вам, таскаться по вересковым полям, рискуя тут умереть и сделаться добычей ворон.
Слушая эту речь, старик грустно качал головой и стонал, стараясь сдержать новый приступ кашля, клокочущий в глубине груди.
— Потерпите, — продолжал Ликсия, все больше входя в роль пророка. — Времена изменятся. Во всем мире, и в Сардинии тоже, не будет больше бедняков, не будет преступников, завистников, мошенников, вроде моего родственника Вирдиса. И карабинеров тоже не будет, и старики, умирая, не будут тревожиться за судьбу своих внуков. Здесь, где сейчас растет вереск, на этих безрадостных полях, будут зеленеть виноградники, огороды, тучные пастбища...
— Погоди, — перебил его старик, — виноградники, сады, огороды будут принадлежать богачам, а у бедняков, выходит, ничего не останется, даже вереска. Ох, святой Франциск милосердный...
И он опять закашлялся.
Студент, сидевший на стене над его головой, развел руками и в отчаянии обратил глаза к небу.
— Они ничего не способны понять: нет, это просто не люди! — с пафосом воскликнул он.
— Ты мне дашь чего-нибудь? — спросил наконец старик.
Но Ликсия, верный своим принципам, отказал ему в милостыне.
А старик, чтобы утешиться, подумал: «Парень-то, видно, тронулся».
Мороз
(Перевод Р. Миллер-Будницкой)
— Сейчас пойдет снег, — говорит молоденькая служанка, взглянув на помрачневшее небо. — Возьми хотя бы зонтик, Мауредду...
Зонтик? Молодой хозяин смеется. Таскать с собой зонтик ему кажется слабостью, даже трусостью.
— Вот увидишь, пойдет снег... И зачем ехать в такую непогоду? — твердит она, и голос ее звучит умоляюще и пылко. — Я сегодня не засну...
Мауредду опять смеется. Он готов смеяться по любому поводу беззаботным, детским смехом.
— Не заснешь? Сойдешь вниз, на кухню, — говорит он, кончая седлать коня.
Улыбается и она, чуть-чуть, и в улыбке столько грусти и неги.
— Но ведь тебя не будет рядом... — шепчет она.
— Что ж, заснешь в обнимку с циновкой. Поди скажи бабке, что я уезжаю... Нет, погоди минутку!
Он увлекает ее под навес и крепко обнимает. Она — высокая, выше него, красивая, румяная, у нее нос с горбинкой и круглые сияющие глаза. Она порывисто прижимается к юноше.
— Обещай, что не поедешь через мою деревню, — шепчет она. — Ты же знаешь, что брат мой хочет тебя убить.
— Он никогда меня и в глаза не видел... А впрочем... что он может мне сделать? — роняет юноша, и в голосе его слышится презрение, с которым обычно говорят о бедняках богатые сардинские крестьяне. — Поймаешь, какая-то козявка!
— Козявка! Вот увидишь, как она тебя ужалит, эта козявка! — вскрикивает девушка, отталкивая сто. — Подойди только, и увидишь!
— Ну ладно, хватит! — резко прерывает ее юноша. Но тут же смягчается и, стараясь загладить неприятное впечатление, говорит деланно-простодушным тоном:
— Да разве я не женюсь на тебе?
— Когда? Когда паук соткет мне свадебную фату?
Он смеется.
Мауро пришпоривает коня, круто поднимаясь вверх по обледенелой горной тропе. Небо низко нависает над головой. Мутно-белые тучи, тяжелые и холодные, как глыбы снега, проносятся на белом горизонте. Горы обдают друг друга бурными порывами ледяного ветра. Черные дубы вдоль дороги трясутся лихорадочной дрожью, и хлещут верхушками бегущие над ними низкие тучи, словно пытаясь отомстить непогоде.
А Мауро все думает о словах, которые сказала ему на прощание его безропотная юная подружка.
«Что и говорить, девушка она рассудительная; недаром она мне так по сердцу. Но мыслимо ли это дело? Богатый хозяин, единственный сын, единственный внук, владелец целой сотни овец и двух сотен свиней — и вдруг женится на служанке, на девчонке из чужой деревни... Парень из такой семьи...»