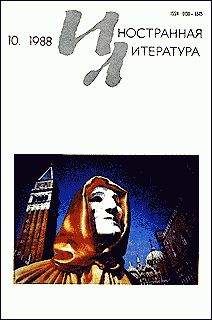Я осматриваюсь по сторонам, хотя смотреть особенно не на что. Никакого сравнения с «Наутилусом» капитана Немо. Ни тебе роскошного салона, ни органа, ни огромного иллюминатора, за которым мерцают океанские глубины!
— Я вас оставляю, — говорит командир, а сам и не думает уходить, принимается молча меня разглядывать. Я, в свою очередь, разглядываю его. Он среднего роста, плотно сбит, держится очень прямо, ни намека на живот, смоляные волосы и борода коротко острижены и при всей этой смоли — голубые глаза. Он сообщает: — Море неспокойно. Для начала нас неплохо покачает. Но вам не привыкать: ведь вы уже ходили на малых субмаринах. Впрочем, как только мы погрузимся, качка прекратится и я вам гарантирую полный комфорт.
Обещание «полного комфорта» вкупе с легкой улыбкой и впрямь успокаивает меня. Все моряки мучались, мучаются и будут мучаться от морской болезни. Я не исключение. И все же я плохо представляю, как можно оперировать аппендицит, когда судно кренится с борта на борт.
Командир продолжает:
— Я пришлю вам обоих санитаров, Легийу и Морвана. Доктор Мёрио был о них наилучшего мнения. Он прекрасно с ними сработался.
Уловив в последней фразе нотку сожаления а может быть, и скрытое предостережение, я говорю:
— Надеюсь, что мы найдем общий язык.
— Не сомневаюсь, — поспешно соглашается он и добавляет: — Как вам, наверное, известно, по будням у нас носят простые рубашки и джинсы, без всяких знаков отличия, а в форму облачаются только по субботам и воскресеньям.
Еще раз улыбнувшись, он выходит.
В предчувствии обещанной качки я глотаю мятную таблетку. Разбираю багаж и начинаю обживать свою «каюту». Она целиком отделана дубовой фанеровкой, и это создает атмосферу теплоты и уюта, того, что по-английски называется «cosy». Хорошее освещение и малые размеры еще больше усиливают это впечатление.
Слева от койки, то есть там, где будет моя левая рука, если я улягусь на спину, поверхность, отделанная мореным дубом, резко изгибается — это наводит меня на некоторые мысли. Во-первых, нужно будет садиться на койку не иначе как с оглядкой, чтобы не набить шишку на голове. А во-вторых, эта кривизна более или менее повторяет очертания корпуса подлодки. Стало быть, по левую сторону от меня, за тонкой деревянной обшивкой и могучей броней корпуса, простирается океан — необъятный, мрачный, таинственный. И сколько я не повторяю себе, что броня эта крепка, абсолютно непроницаема и рассчитана на самые высокие давления, столь грозное соседство не может не действовать на мое воображение. Умом я понимаю, что страхи мои напрасны, что мы с океаном вовсе не обязаны вступать в близкое знакомство. Но можно рассуждать и по-другому. Стальной левиафан — настоящее чудовище, однако стихия, в которой он плавает, куда чудовищнее. А ну как его удивительные машины откажут и ему придется погрузиться в такие глубины, на которые он не рассчитан, — да ведь тогда его раздавит как ореховую скорлупку!
В дверном проеме показывается чья-то фигура.
— Позвольте представиться, мсье: Легийу, санитар и анестезиолог.
Подобное обращение меня удивляет. Следовало бы ожидать, что санитар, обращаясь к врачу, назовет его, как это положено по уставу, «господином врачом». Так почему же он говорит мне просто-напросто «мсье»?
Тем не менее я встаю, улыбаюсь, пожимаю ему руку. Бретонец, сразу видно. Среднего роста, кряжистый, зеленоглазый, рыжеватая шевелюра, скулы широкие, чуть ли не монгольские.
— Вы не из Финистера[2], Легийу? Я не ошибаюсь?
Еще бы мне ошибиться! Я это доподлинно знаю. Как только мне сообщили о моем назначении, я заглянул в его личное дело, познакомился заодно и с другим санитаром, Морваном.
— Да, мсье, — отвечает Легийу.
У него такой напыщенный и самодовольный вид, что я могу без труда, как сигнал на эхолоте, расшифровать его мысли. Нет лучшего места во Франции, чем Бретань. А в Бретани нет лучшего места, чем Финистер.
— Не хотите ли вы, мсье, взглянуть на свои владения?
Я уже был на «Молниеносном» и знаю, что они из себя представляют. Но как отказать подчиненному, который считает своим долгом ввести меня в курс дела?
— Смотрите сами, мсье, у нас тут чего только нет! И операционный блок, и реанимация, и рентген. А операционный стол вы видели? Это же просто чудо! Он может превращаться в зубоврачебное кресло! Берите бормашину и действуйте!
Я невольно морщусь.
— Хотя, конечно, — спохватывается Легийу, — зубы лечить — это вам не сахар.
— Вот здесь у нас, — продолжает он, — хирургические инструменты. Иголочки-то все с насадкой! А ведь были времена, когда нам приходилось вдевать нить вручную, во время операции она то и дело выскальзывала.
Это и в самом деле серьезная проблема. Для хирурга, разумеется, а не для санитара и анестезиолога. Но мой подопечный, судя по всему продолжает рассуждать во множественном числе. С каких это пор он перестал выпячивать свое «я»?
— А не показать ли вам, мсье, нашу аптечку? Доктор Мёрио выписал с базы прорву лекарств! Посмотрите, пригодятся ли они вам?
Ясное дело, пригодятся. А если даже и нет, я не стал бы об этом говорить из уважения к моему предшественнику.
Лазарет невероятно мал, и все равно я доволен. Никакого сравнения с моей дизельной субмариной, где только и было что четыре коробки с лекарствами! Чтобы перевязать пострадавшему колено, мне приходилось укладывать его на обеденный стол.
Я прохожу в крохотное смежное помещение с двумя койками. На нижней, спиной ко мне, храпит какой-то человек.
— Вот так новость, — удивляюсь я, — у нас уже есть больной?
— Нет, мсье, это Морван.
— Он тут всегда спит?
— Да, это его койка, — произносит с вызовом Легийу. — А моя — та, что сверху.
Я осторожно перехожу в наступление:
— А мне показалось, что это помещение служит изолятором.
— Так оно и есть, мсье, — подтверждает Легийу, — вообще-то у нас тут изолятор. Когда кто-нибудь из экипажа всерьез заболевает, один из нас уступает ему свое место, а сам перебирается на его койку в кубрик.
Неожиданно в лазарет заглядывает матросик лет двадцати — «матросиками» здесь зовут призывников.
— Позвольте представиться, доктор, меня зовут Жакье. Я один из двух стюардов в кают-компании. Командир просил вам передать, что вы можете подняться на мостик и в последний раз взглянуть на землю.
Этот Жакье, маленький быстроглазый брюнет, не величает меня ни «мсье», ни «господином врачом», а зовет просто «доктором». Оттого, вероятно, что, по его убеждению, он принадлежит к привилегированному обществу кают-компании; так метрдотель считает себя членом клуба, который он обслуживает. «Не belongs[3]», как сказал бы англичанин.
— Я провожу вас, доктор, — предлагает Жакье, видно думая, что без него я непременно заплутаюсь во чреве ПЛАРБ.
«Мостиком» на подлодке называется башенка с двумя торчащими из нее отростками вроде плавников (на самом деле это перья горизонтальных рулей), которые придают ей весьма своеобычный вид. На верхушке башенки понатыкано бог знает сколько маленьких мачт, антенн и перископов, к тому же она округлая только спереди, а сзади заостряется, видимо для увеличения обтекаемости при погружении. У самих подводников она известна под названием «купель», потому что, когда подлодка идет в надводном положении, там можно вымокнуть до нитки, я сам в этом убедился.
Жакье открывает люк, ведущий на мостик, и тут же его за мной захлопывает, чтобы вода не просочилась вовнутрь. Как только я распрямляюсь, море с ветром закатывают мне здоровенную оплеуху.
Солнце сияет вовсю, но прямо в лицо хлещет зюйд-вест, а соленые брызги слепят до того, что я вынужден повернуться спиной к ветру, чтобы хоть что-то разглядеть.
«Последний раз взглянуть на землю» — это выражение обретает вполне определенный и даже несколько драматический смысл для того, кому предстоит провести два с лишним месяца на глубине ста — ста пятидесяти метров, ни разу не всплывая на поверхность. Посему «последний взгляд на землю» — это еще и взгляд на солнце и облака, в особенности на облака, которые кажутся людям, готовящимся к долгому затворничеству в подлодке, такими свободными и счастливыми странниками лазури. Земля и небо. Родные и близкие. Да разве перечислишь все, с чем ты должен расстаться!
Чем ближе мы подплываем к узкому выходу из гавани, за которым нас ожидает открытое море, тем сильнее оно вспучивается и опадает, тем яростней секут нас волны и ветер. Я промок насквозь, меня порядком укачало — такое ощущение испытывает, наверное, плюшевый мишка, когда его вертит туда-сюда расшалившийся малыш.
Отряхиваясь, я спускаюсь на несколько ступенек вниз, где, притулившись за корпусом рубки, о которую с шумом разбиваются волны, курят двое офицеров, наслаждаясь последними затяжками.