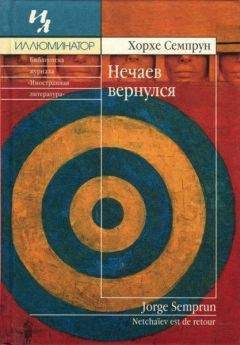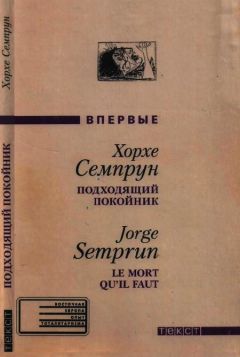— Пока! — сказал он.
И вышел.
В восемь часов Луис Сапата ехал по улице Фруадво на своем «Ягуаре», один.
Он сбавил скорость, проехал еще немного, потом остановил машину во втором ряду и, не выключая двигателя, вышел. Стоя на мостовой и придерживая открытую дверцу, Сапата настороженно огляделся. Он посмотрел на тротуар, туда, где должен был стоять Зильберберг, потом взгляд сто скользнул в сторону сквера и, медленно двигаясь слева направо, обследовал каждую скамью, каждый закоулок, каждый голый куст.
Сейчас он доберется до того места, где, не слишком надежно укрывшись за кустарником, стоял Зильберберг. Он решил выйти из своего укрытия. Хватит играть в казаки-разбойники. Все, он выходит.
В этот миг Сапату убили.
Он стоял, опираясь локтем на открытую дверцу «ягуара», высматривая Зильберберга, а может быть, кого-то еще, кто мог оказаться опасен.
Внезапно в этой почти неподвижной картине, лишь едва заметно нарушаемой медленным движением головы Сапаты, в этом фрагменте времени, застывшего на точке чистого настоящего, Зильберберг уловил какие-то легкие перемены.
В поле его зрения, довольно узком, появилась молодая женщина. Вернее, две. Две женщины. Сразу вслед за первой, которая шла по мостовой вдоль припаркованных машин к Сапате, появилась другая, шедшая по тротуару.
Эли не успел рассмотреть их лица. Но одеты они были по обычной тогдашней моде: длинные юбки, рубашки навыпуск, шали, куртки — и всё выступало одно из-под другого. Многослойные мешковатые одеяния, изысканные лохмотья модных блеклых тонов: сероватый, бледно-зеленый, грязно-бордовый, тускло-розовый. Ни на миг не задумываясь, даже не видя их лиц, он понял, что они молоды — по этим их нарядам, по уверенной походке и отчетливому впечатлению, что у них есть определенная цель.
Да, именно цель. Точнее, мишень.
Первая — та, что шла по мостовой, — поравнялась с Сапатой. Тут она быстро вынула откуда-то из-под своих тряпок револьвер и выстрелила в Сапату в упор. Раздались два глухих выхлопа, как будто вылетали пробки от шампанского. Что-то вроде «пум!», «пум!» Револьвер был с глушителем, Эли сообразил это только потом, вспомнив размер ствола.
Девушка продолжала идти дальше той же походкой, не торопясь и не оглядываясь: живая машина, смертоносный ходячий робот. Сапата обмяк, опустился, исчез из виду и наконец рухнул на мостовую рядом со своим «ягуаром» — бессмысленным отныне символом процветания.
Вторая девушка, проскользнув между двумя стоявшими у бордюра машинами, сошла с тротуара, приблизилась к уже невидимому для Эли телу Сапаты и выстрелила в голову — для верности. Эли слышал этот третий выстрел. И видел все движения девушки: сначала рука ее опустилась вниз и вытянулась, потом снова согнулась, пряча оружие под бесформенную стеганую куртку.
Сразу вслед за выстрелом раздался шум отъезжающей машины.
Черная БМВ ворвалась в пространство загипнотизированного, остановившегося от ужаса взгляда Зильберберга. Она резко затормозила, в тот же миг распахнулись дверцы. Обе девушки, продолжавшие спокойно, не глядя по сторонам, идти вперед, быстро сели, и машина унеслась в сторону площади Данфер-Рошро.
Всё, тишина. Голуби, городской гул, утреннее зимнее небо над Монпарнасским кладбищем.
Эли стоял в сквере Жоржа Ламарка, не в силах пошевелиться. Он смотрел сквозь ветки на то место, где только что видел Сапату, и твердил себе, что надо бежать, бежать как можно скорее, но ноги отказывались ему служить. Через несколько минут после убийства у тротуара появился маленький «пежо» и со скрежетом затормозил. Наверно, водитель увидел тело, лежавшее на мостовой возле открытой дверцы. Рядом с водителем сидела молодая блондинка, лицо ее было обращено к Зильбербергу. Взгляды их встретились, и он ощутил это как физическое прикосновение. Но машина тут же умчалась.
Эли опомнился и ушел из сквера. Никто еще не обнаружил тело. Никто не звал на помощь. Вокруг были только голуби, жизнь и прозрачное небо над стенами Монпарнасского кладбища.
— Даниель вернулся!
Роже Марру, вздрогнув, проснулся. Жюльетта, его жена, трясла его за плечо.
Он открыл глаза, увидел, что часы показывают пять утра, а у Жюльетты безумный взгляд и судорожно напряженное лицо, как обычно в худшие минуты приступов. Видимо, она ускользнула из-под надзора молодой сиделки, которая на всякий случай ночевала в смежной комнате.
Он сел, прижал Жюльетту к себе.
— Вернулся? Расскажи мне…
Главное было tie раздражать ее, не спорить, не говорить сразу, что Даниель не может вернуться. Двенадцать лет назад, когда пропал ее сын, Жюльетта поначалу восприняла это спокойно, считая, что ему необходимо было сменить обстановку, исчезнуть, чтобы выйти из тупика, в который его завели занятия политикой. Он скоро вернется, излечившись от нигилистских иллюзий, готовый начать жизнь сначала. При его способностях ему все удастся легко: перед ним открыто все, весь мир.
Однако через два месяца от Даниеля пришло письмо откуда-то из Центральной Америки, где он писал, что решил уйти из жизни, утратившей для него всякий смысл. Он просил прощения у матери и даже сделал какую-то дружескую приписку для Марру, своего отчима. Что было совершенно для него необычно.
Сначала Жюльетта страстно, исступленно надеялась, что он не исполнит своего решения. Но три недели спустя из французского консульства в Гватемале им пришло официальное сообщение о его смерти. Обугленное тело Даниеля Лорансона было обнаружено в ущелье, куда упала его машина. Вместе с извещением они получили кое-какие вещи и документы: ручные часы, подаренные ему матерью, когда он выдержал конкурс в «Эколь нормаль», золотая цепочка отца и еще что-то в том же роде. В его паспорте, наполовину сгоревшем, уцелела страничка с фотографией.
Жюльетта долго плакала над этой фотографией, не лучшего качества, но все же передававшей ослепительный оттенок золотистых волос Даниеля и его скандинавскую красоту.
Роже Марру начал обивать пороги дипломатических учреждений, чтобы перевезти тело Даниеля на родину, но ничего не добился. Намеренное или случайное падение его автомобиля произошло в районе действий партизан. Даниеля похоронили наспех, в общей могиле на горном кладбище, и не было никаких шансов теперь его опознать.
Шло время, и Жюльетта, так и не смирившаяся с потерей Даниеля, постепенно погрузилась в какую-то отрешенную меланхолию. Иногда она неделями не выходила из своей комнаты, где неподвижно лежала или сидела в кресле, глядя в пространство. Единственным ее занятием в такие периоды было перебирать детские фотографии Даниеля и переклеивать их из альбома в альбом по каким-то одной ей ведомым и изменчивым признакам, смысл или бессмыслица которых оставались тайной для всех.
Периоды депрессий становились все более долгими и частыми и перемежались припадками буйства, когда она пыталась покончить с собой, поэтому и возникла необходимость в тактичном, но постоянном присмотре. Обычно о приближении опасного приступа Жюльетта невольно сообщала сама: она вдруг объявляла, что Даниель вернулся и она только что с ним разговаривала.
В эту зимнюю ночь Жюльетта сумела выскользнуть из своей комнаты, так что сиделка этого не заметила. Она вздрагивала в объятиях мужа, бормоча, что Даниель вернулся, что она говорила с ним. Это был не сон, нет, нет, не сон, как раньше, на сей раз это был настоящий, живой Даниель!
Роже Марру прижимал ее к себе и долго что-то шептал ей на ухо с непоколебимой мягкостью, которую выковали в нем эти свинцовые годы. Он взял Жюльетту на руки — она была легкая и теплая, как перо случайно залетевшей птицы, — и отнес в спальню на первом этаже, выходившую в большой сад. Он уложил жену в постель, проверил дверь на террасу, обнаружил, что она открыта, закрыл. Задергивая занавески, он увидел вдали огни Парижа и освещенный силуэт Эйфелевой башни на фоне зимнего ночного неба.
Несколько лет назад он купил этот дом в северном пригороде, на холме, соединяющем Монлиньон и Сен-Лё, у самого леса Монморанси. Ему хотелось, чтобы Жюльетта жила в тиши, в окружении ветров и деревьев. Но была и еще одна причина: именно здесь, в Сен-Лё, больше сорока лет назад, в 1942 году, он познакомился с Жюльеттой Бленвиль. На дне рождения их общей приятельницы, сестры его однокашника.
Им всем было около двадцати — отчаянный возраст.
Мишелю Лорансону было ровно двадцать. Он тоже был на этом дне рождения. Он всегда был там, где его лучший друг Роже Марру. Наверно, именно Мишель первым вошел к Жюльетте Бленвиль — вошел в библейском смысле. Девушка переходила потом от Мишеля к Роже и наоборот, безвольная, нерешительная, но одинаково пылкая с обоими. А они ждали, чтобы судьба сама разрешила эту ситуацию, прекратив непрерывную лихорадку счастья-страдания.