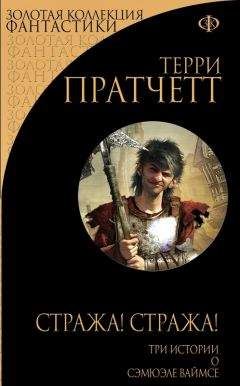Разделывая лесины, мы с гавриками сговаривались позже посадить столько деревьев, сколько пошло под пилу. Мы откуда-то вывели для себя: леса, как и бродячие собаки, нуждаются в защите
Задуманное непременно выполнялось. Сотни прутиков мужской особи тополя воткнули мы во взрыхлённую почву, десятки младенческого возраста берёз расселили по Заречью.
…Странно, но вот только теперь пришло на ум, что после шестнадцати лет мне всё как-то некогда отдавать лесу долги.
5. Машинное маслоКаждое учебное заведение, наверное, имеет свои легенды. Они передаются с рук на руки. Когда я стал студентом Литинститута, то есть через семь лет после окончания его Василием Ивановичем Беловым, мне поведали — таким тоном, каким сообщают о значительных достопримечательностях, — что мой земляк хранил в комнате дёготь, который помогал ему "войти в настроение". Я никогда не спрашивал у Василия Ивановича, правда ли это. Полагаю — чистая правда. У Александра Яковлевича Яшина, например, в рабочем кабинете в Москве хранились серп, лопата, грабли, коса. "Это не бутафория, — предупреждал Яшин, — не причуды. Это моя пуповина, зацепка за родную землю, связь с деревней".
Для кого-то, вероятно, запах дёгтя не самый волнующий.
И даже не из приятных. Зато они неравнодушны к дымку костерка, на котором сжигают картофельную ботву. Или к ароматам скошенных трав. Или к пряному воздуху земляничных полян. Или к духовитости только что срезанного подберёзовика. Или к столярному клею. Или к раздражающему ноздри запаху окалины. Или, как я, к судовому машинному маслу.
Отец брал меня в рейс лет с четырёх: сначала это были северные реки, а затем Белое море. Причём не так: захотел, заревел — и тебя взяли. Все братья бредили судном. Поэтому рейс следовало ещё заслужить. Возвращался в порт отец и спрашивал маму, а мы, конечно, тут же крутились: "Которого брать, который заслужил? Александра? Михаила? Сергея? Николая?" И мама называла счастливца, и остальным объясняла, почему этому брату предпочтение. Которого брали, тот немедленно укладывал личные вещи и докладывал отцу о готовности. Отец одобрял такую стремительность: время выхода судна из порта колебалось в пределах от нескольких часов до нескольких суток, так что, когда он прибегал за кем-то из нас, отправляющимся к "неизведанным землям", начинать собираться в дорогу было поздно.
Многое из тех рейсов отложилось в памяти. Но самое заветное воспоминание у меня одно. Чёрная, но не мрачная, тёплая августовская ночь. Я стою у борта близ машинного отделения, дверь туда отдраена, и из спокойно освещённой ямы доносится деловитый перестук двигателей и тянет машинным маслом. И от запаха масла, как в городе от запаха пирогов, а в деревне от свежеиспечённого хлеба, появляется ощущение дома. Сердце обмякло, оттаяло. Мне уютно возле крашенного охрой грузного железного борта. Мой дом плывёт по таинственной ночной реке. Сбоку проползают редкие огни неизвестных мне деревень, где добрые ко мне и моему отцу, и ко всей нашей команде люди припозднившись сидят за самоваром. Впереди, едва различимы, светлячки бакенов. Внизу волны пошлёпывают судно по щеке. Река кое-где чешуится — от отражённого света сигнальных огней судна, от света деревень и бакенов. Небо — без начала и конца, без конца и края. И думается, с неба видят меня, но те, кто видит, равнодушны и холодны ко мне. Хотя я-то знаю, что это один вид, что это лишь обман, что небо любит меня. Мне и жутко, и любопытно, и душа обмирает от восторга и гордости, ещё бы, ведь я живу!
Тогда меня не повергали в смятение вечность и вселенная. "Вселенная" — от слова "вселиться". Я поселился на этой реке, с этим небом и с этими светлячками бакенов — и живу. И всегда буду жить так, если захочу. Если двигатели будут стучать. Если машинное масло не кончится…