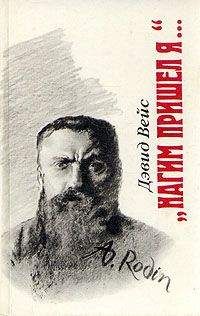— Это я, да, — хрипло сказал я.
От быстрой поступи у мамы вздрагивали губы, она заплакала. Барсик заскулил, отчаянно завилял хвостом и всем телом, едва не валясь с ног. Мама обнимала меня и не касалась пиджака кистями. А я растопырил руки и не мог наклониться, чтобы поставить чемодан и сумку.
— Приехал, все, приехал, — голос мой прерывался.
Какая-то могучая сила выдавливала из Барсика непрерывный писк, елозила собачку по земле, била об мои ноги. Мы вошли во двор, забыв пропустить его. Он заскулил, суматошно скребя калитку.
— Совсем, что ли, очумел от радости? — удивилась мама. — Вон же твоя дырочка в заборе.
В сенях жарко, как в бане, и пахнет хлебом.
— Вы хлеб печете, мама?
— Хлебный-то закрыли! — радуясь, что сообщает новость, сказала она. — Все сами пекут. Кому охота т а к и е деньги на казенный хлеб транжирить. Продавщицы аж плакали...
Я слушал, а сам переставлял чемодан с места на место, наконец, водрузил на табурет. Мама села и все говорила, намеренно не замечая его. При виде покупок запричитала.
— Федя, зачем тебе это надо было?! Уйму денег потратил! — сокрушалась она. — Мы бы и так перебились.
— А вот папе фермерский комбинезон. Я его в секонд-хенде нашел.
Мама щупала джинсовую ткань и что-то прикидывала в уме.
— Да ну его! Фермера нашел! Он напьется и потеряет где-нибудь.
— Тогда ж только в трусах домой придет! — я испугался, что она припрячет комбинезон.
— А что, не приходил? Приходи-ил, и не раз!
Пили чай с хлебом и сливками. Стол вынесли из сеней во двор, под березу. По-деревенски низко проплывали легкие громады облаков. Я подносил пиалу к лицу, а в ней дрожит солнце, чуть наклонял вбок — отражается ветвь березы, по краю курчавится облако. Трогал губами золотистый дрожащий шар, пил и представлял, что мы с мамой на небесах.
— А как коровы мам, которых мы с папой из колхоза привели?
— Слава богу! — махнула она рукой. — Слава богу, разделался он с ними со всеми, кого сдали, кого зарезали.
— Почему?
— А какой толк от них, Федор? Титьки тугие, сами больные, нервные. А весной-то что было — смех и грех, если рассказать! Повела их в первый раз на выгон. Красулька впереди наша, а эти за ней. Вроде идут. Подгонять уже стала к грейдеру, а они услышали шум дойки с фермы — и-и-их! Как рванули туда, я аж опешила. Что делать? Красульку пустила к стаду, сама домой. Соседку, Светку, позвала. Приходим в мэтэфе, на базу, а эти кулемы стоят среди других колхозных коров, тут им и кормушка и автопоилка. Счастливые, ждут, когда к ним доильный аппарат подключат, а ведь доенные они. Мне их даже жалко стало. На веревках вытаскивать пришлось и через всю деревню переть. Три раза, Федь, три раза они так убегали! — мама прерывисто вздохнула.
Я представил отца, увидел себя рядом с ним. Дорисовал за спинами морды коров и баранов. У всех был испуганный, беспомощный вид.
Листья березы картаво шевелились под ветерком, чай давно остыл.
Рано вечером приехал с работы отец. В нем ничего не изменилось.
— Здорово, здорово, сынок! С приездом! — отец, превозмогая усталость, суетился и стеснялся. — Ну, как там, в Москве?
Его рукопожатие очень жесткое и шершавое, будто рука в деревянной перчатке. Мы с отцом всегда только мельком смотрели в глаза друг другу, словно что-то нехорошее знали за собой и не поговорили об этом искренне.
— Вон, посмотри-ка, что тебе сын привез, — по-обычному глядя на отца, сказала мама.
— Ох, ты, вот это сынок! — отец развернул комбинезон, и лицо его растерялось. Опустил глаза, пощупал ткань, проверил молнии. А потом гордо встряхнул комбез. — Ребятам скажу — видели итальянскую рекламу по телевизору. Во-от, Федька мне у них купил… Да я теперь первый фермер на деревне!
— Смотри, не зафермерствуйся! — презрительно сказала мама.
— Ты че, мать? — отец болезненно заглянул ей в глаза. — Эх ты-и…”
Словно счастливый дурачок стоял Димка у главного корпуса Российского государственного университета МСХА имени К.А.Тимирязева. Неужели он был такой умный, что учился в этом солидном заведении? Ему ничего не вспомнилось и не раскрылось здесь. Конец весны. Сияют выпуклые оконные линзы. Студенты готовятся к сдаче экзаменов. Он с радостью откликался на просьбы дать подкурить или угостить сигареткой. Щурился на солнце и ждал, что его узнает какой-нибудь прекрасный человек, настоящий друг, и позовет с собой, раскроет ему глаза, расскажет прикольный случай из жизни того парня, и этот Димка вспомнит сам себя, освободится от вязкого морока, в котором находится с непонятных пор.
“Отец наконец-то стал хозяином. Появилось какое-никакое добро. Зачем ему пить? Радостно и приятно было ждать его с работы, уважительно готовить баню. Зашел дядя Миша, он колхозник, приезжает раньше с полей. Мама доит корову, а он сидит на бревне.
— Урожай-то какой нынче! — говорит он. — Двенадцать зерен в колосе насчитал. Даже обидно!
— Да, Миш, тяжело, — не расслышав, что он сказал, отвечает мама.
— Это как же они зерно собираются отвозить? Я слышал, две машины у них всего.
— И-их, не знаю, Миш, — пугается мама. — Сдохнут они, наверное, на этих полях.
— У нас в бригаде сколько машин, и то, боюсь, не хватит, а они как же?
— Не знаю, не знаю, Миш. Говорю же, каждое утро берет обед и уходит.
— Это как же они там без горячего? Чай ноги протянешь при такой работе и без горячего!
Вскоре приехал отец, заглянул на задний двор.
— Здравствуйте, товарищи, — он усмехнулся и присел на корточки рядом со мной, прислонился спиной к стене сарая.
Боком я почувствовал от папы густое, сухое тепло, такими теплыми волнами веет от заглушенного трактора.
— Убирать еще не начали?
— Пока влажновато, Миш, бороновали сегодня.
— А как агроном-то ваш зерно собирается возить? — громко спросил дядя Миша. — Две машины у вас только?
— Зачем две?! — вскинулся отец. — У нас “КамАЗ” есть, городского наняли, платить будем.
— А-а… А что же у вас…
Но отец встал и перебил его.
— Ладно, пойдем, дардомыга. Придет время, я тебя еще к себе возьму.
Мы с дядей Мишей засмеялись и пошли за ним. В сенях отец лег на диван, дядя Миша сел на скамеечку. Он украдкой посматривал на отца.
— Как же вы мульены свои делить-то будете?
— О-о, Миш, с долгами упаришься расплачиваться!
— А ваш-то на джипе рассекает, и с женой я его видел в машине! На ваши же деньги!
Отец приподнял голову и посмотрел на него ясными от усталости глазами.
“Сейчас поругаются”.
Отец сел и стал делать самокрутку из чернобыльской махорки.
— Да я уже устал ругаться, Миш, всю жизнь ругался в колхозе.
— Но он же, наверно, отчитывается перед вами за траты?
— Че отчитываться? В конце года деньги будем делить, и отчитается, он же все-таки по общим делам катается.
— Ну, ты даешь! Да разве ж упомнишь тогда все. Не-ет, обманет он вас, как детей малых, у него жена — бухгалтер!
Отец стряхнул пепел и нахмурился.
“Сейчас поругаются”.
— А! Лучше на одного агронома работать, чем в колхозе на сто начальников!
Я засмеялся, хоть и не хотелось.
— Обманет, обманет! — воодушевился отец. — А в колхозе нас как гнули, у-у! А я им еще до перестройки всю правду говорил, у меня уже была перестройка, а они меня за это на пятнадцать суток, — он затянулся и весело посмотрел на нас. — Парторгу говорю, вы, мол, на рыбалку государственную машину готовите, на общем бензине, а нас соляркой не заправили сегодня! А он как попер на меня! Утром председатель вызывает “на ковер”: Ты против кого прешь? Ты против партии прешь?! А я, мол, это кто — партия?! Это вы, куркули драные, партия?!
— Не выражался?
— Не-е, что ты!
Дядя Миша улыбался из приличия.
— Ну, они документы оформили на 15 суток. Утром на остановке говорю Альке, секретарше: давай бумагу сюда, я же знаю, зачем ты стоишь. А она шоферу папку отдала. Сидел я, сидел в отделении. Говорю: может, отпустите домой, в шесть автобус уходит? А ты че здесь, мол, сидишь? Так и так, говорю, за рыбалку! Там все смеялись. Иди, бумаг нет на тебя, охота вшей кормить. Ну, вернулся. И че ездил?
— Да я бы их всех сейчас, в упор, не жмурясь! — равнодушно махнул рукой дядя Миша. — Озверели совсем, чувствуют конец и хапают ртом и ж-ж.., как говорится, да-а!
Отец лежал спокойный, светлый и чистый, той особой, сухой чистотой человека, вернувшегося с поля.
— А ты все-таки скажи агроному. Что это вы свои продукты таскаете?! Пусть сам закупает.
— Да не умрем, Миш. Нас же никто не гнал из колхоза. Нам потерпеть маленько, а там деньги появятся, все будет хорошо.
Хорошее было лето”.
Димка с упоением изучал в Гугле карту Оренбуржья и на одной из них, почти у самой границы с Казахстаном, увидел свою деревню со странным названием Ченгирлау. Он увеличивал масштаб, гладил пальцем таинственную, трансграничную реку Илек, на одном берегу которой выжженная степь, а на другом — леса. Сердце вспухало в волнении. Ему представлялись тенистые аллеи, бархатно-зеленые корявые дубы; спокойные глубокие водоемы, ивы на берегу, к ним привязана лодка. Там, на родине, он будет читать исторические книги, просыпаться с рассветом, ходить к колодцу за водой. Ему виделось не деревенское, а скорее дачное что-то — домики с черепичной крышей, в домах — полосатые половики, кровати с чугунными ажурными спинками, ноутбук с Интернетом на свежеструганной столешнице.