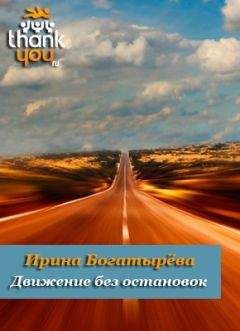Толик знает, что говорит: Рома-Джа хорошо знаком с трассой. Каждое лето он уходит стопом в Крым, или на Кавказ, или еще куда-то.
Собирает в мае плату за три месяца вперед со всех жителей коммуны и уходит на все лето. У него там девушка есть и сын даже, года три, наверное. Я фотку видела: странное существо с выгоревшей на солнце мордочкой и волосами. Волосы эти совершенно нечесаны, не прочесываются, наверное. А ведь именно так исторически получились дрэды – из сбитых пожизненных колтунов.
Но Рома ничего о них никогда не говорит, об этой своей немосковской семье. Я о них знаю только, что – есть.
– Слушай, чувак, ты что хочешь? – вдруг оборачивается Рома и говорит
Толе прямо в лицо, чтобы не орать сквозь дождь, говорит тихо: – Ты представляешь, сколько с тебя отсюда до центра слупят? Ты весь наш заработок отдать готов?
– Да ты чего? – удивляется Толя и делает в сторону неверный шаг. -
Разве нельзя сказать, что у нас нет, если тебе жалко?
– Ты не понимаешь: стоп – это не когда ты на халяву едешь, потому что жмот. На трассе врать нельзя. На трассе ты открыт. Ты понимаешь?
А тут тебе какая трасса? Тут что, дальники в рейс идут? Это Москва, приятель.
Он поворачивается и идет дальше, но тут же мы слышим:
– А я ненавижу ее! – взрывается – и сразу в визг – Толькин голос. -
Я ненавижу ее, эту вашу Москву, эту зажравшуюся, жадную, вонючую вашу Москву!
Мы оборачиваемся: он стоит, как горбатая гигантская птица с перебитыми крыльями – руки болтаются из-под рюкзака, с них течет вода.
– Вы слышите? Вы! Я ненавижу ее!
– Ну слышим. А чего же ты сюда приперся? – кричу я ему в дождь – чувствую, что меня он тоже начинает бесить: ведь нам еще идти и идти, непонятно даже куда, а он нашел время и место для своих эмоций. – Сидел бы в своем Петропавловске! Чего тебя сюда понесло?
– Я ее еще сделаю! Я сделаю их всех, слышишь! – орет Толик. – Ты видела ее карту? Ты к нам в салон зайди, там висят эти карты сотовых сетей. Ты видела? Ведь это же паутина! Это паутина, мы летим сюда и липнем, как мухи, мы прилипли, болтаемся и ждем, когда нас сожрут.
Но только не будет этого! Я для того сюда приехал: я их всех еще сделаю! Вы слышите меня? Я сделаю всех, и вас, и всех, всех!
Толик живет в нашей комнате и спит под роялем. Он делает картины из пивных пробок, стекляшек, мелких монет, каких-нибудь обломков и прочей дряни, что находит на улицах. Он натаскивает этого мусора целые коробки, они стоят у него под роялем, а потом на тонкий слой пластилина на дощечке он все это налепляет. У него получаются толпы в метро, вид из нашего окна на дворовую помойку, фабрика “Красный октябрь” и Петр, вздыбивший море на набережной… Урбанистический мир из отбросов этого мира. Толик знает, что делает.
Рома подходит к нему и встряхивает за плечи так, что хрупкий пьяный
Толик почти повисает в его руках вместе с рюкзаком.
– Пошли, – говорит потом тихо – из-за дождя я догадываюсь, а не слышу. Толик всхлипывает.
– Ромка, из тех денег… возьмешь мою долю за квартплату, – говорю я, когда он меня догоняет. – А Тольке не отдавай, ладно? А то правда запьет, его с работы выгонят.
– Не запьет. Теперь уже не.
Мы идем дальше. Мои кеды впитали в себя столько воды, сколько могли, и теперь отжимают ее при каждом шаге.
– Ромыч, а Ромыч. А есть ли все-таки в той песне конец? – Толик догоняет нас и становится в ногу, такой же согнувшийся под рюкзаком, как мы. Рома слегка улыбается. Мы топаем дальше.
– Всякий раз, когда уходишь, – уходишь ты навсегда. Иного нет, ибо вернуться всегда – невозможно.
Таково первое правило Грана. Он передал его нам в то утро, когда мы познакомились, – раннее утро на просыпавшемся, умытом Сретенском бульваре. Мы поняли, что это очень верное правило, и решили в тот же день с Якиманки уйти. К тому моменту воздух там был спертый, и мы поняли, что с места этого пора линять. Мы бежали, никому ничего не сказав, ибо таково второе правило Грана: уходя, не оставляйте следов. Мы не оставили, никому ничего не сказали и ушли в тот же день, когда познакомились с ним, – мы оба, я, Мелкая, и Сашка Сорокин.
Это был наш совместный побег на Восток. Гран так и сказал: “На
Восток”, – и мы с Сашкой поверили. Мы сразу поняли, что уйдем, хотя и сказали сначала смутно, что немного подумаем. Но что было нам думать, когда уже мутнели летние рассветные сумерки, Якиманка спала мертвым сном, а мы с Сорокиным всю ночь выгуливали наш утюг, наматывая круги по бульварному кольцу и провожая Кару.
Кара, Кара Зе Блэк, зияющая ночь Кара, и на трассе я буду видеть, как наяву: вот ты таращишь на меня свой блестящий глаз, в котором нет отражений. Ты смотришь на меня и подходишь близко, трогаешь страшным клювом мою раскрытую ладонь, трижды киваешь головой и громко произносишь свое имя.
Кара, Кара Зе Блэк, ворон, потушивший свет Якиманки.
Если есть на свете счастье или несчастье, тебе одной ведомы пути их среди людей, Кара. Если есть на свете радость, гнев, ненависть или печаль, тебе одной нет дела до них, Кара. Ты явилась, чтобы указать путь, – и больше мы, верно, с тобой не столкнемся, так пусть же будет верным твое крыло, летучая Кара, потомок всех воронов Тауэра.
В тот вечер мы ушли гулять с утюгом, а возвращаться нам не хотелось.
Мы молча и упрямо шли вперед, и тень Кары кружилась над нами в нашей скорбной памяти. Мы видели, как ночь овладела Москвой, и Москва играла и млела, смеялась нам лицами своих ночных женщин, мчалась в блестящих машинах, гремела музыкой и хлопала разлетающимися дверями засыпающих станций метро, как бледными крыльями ночных бабочек. Мы шли, общались с ментами, молча курили с хмурыми встречными, говорили с бомжами, покупали пиво и сок в круглосуточных ларьках, посасывали это, смотрели на Москву – и шли дальше, провожая нашу личную, навек улетевшую ночь.
Мы оба знали, что провожаем Кару. Но мы друг с другом об этом молчали.
И вот на добром, уютном Сретенском бульваре встретили Грана. Он сидел на скамейке, к которой нас обоих толкнула сила нашей потери. А когда Гран увидел нас, он понял, что нас-то и ждал.
– Друзья! – сказал он, глядя не на меня, не на Сашку, а как-то между, где прятался за моей ногой скромный утюг. – Всю ночь я гуляю по этому городу и не могу покинуть его улиц, потому чувство не оставляло меня, что эта ночь подарит мне спутников, с кем я начну свой поход на Восток.
А если не сказал, он мог так сказать, этот странный человек Гран, вольный ветер широких дорог. Он рассказал нам, что жизнь его – автостоп, а что такое автостоп – это движение без остановок, он их не терпит, но получилось так, что Москва не отпускала его на сей раз, и он понял, что придет к нему кто-то, кого ждет дорога.
– Сталкер, Сталкер, почем берешься ты провести в зону? – шучу я, и все мы смеемся.
Гран – стопщик-одиночка, но приходит время, и любой мастер берет себе учеников. Все мы поняли, что такова наша судьба. Все мы знаем, что такое судьба, потому что знаем, что такое трасса, а ты не научишься видеть судьбу, пока не вышел на трассу, приятель.
– Мы не ходили еще так далеко, – говорим с Сашкой.
– Я вас научу, – отвечал на это Гран. – Вот вам первое правило: каждый раз, уходя, будьте готовы, что уходите вы навсегда.
Мы возвращались в нашу коммуну радостные и легкие, и утюг тихо шуршал сзади. Мы возвращались с чувством ясности и уверенности в нашем пути, потому что знали, что Кара все-таки изменила наш мир.
Кара явилась мне во дворе Якиманки. Она явилась, как тень, вдруг обретшая плоть и ставшая птицей. Слетела с дерева и оказалась на краю скамьи, где сидела я; выгнула шею, закачалась и трижды произнесла свое имя.
Был радостный и теплый июньский день, и тополя хлопали свежими листьями над моей головой, но если черный ворон сел рядом с тобой, приятель, можешь быть уверен – вся жизнь пойдет кувырком. Или рядом с тобой так часто садятся черные вороны?
В тот день я ушла со своей курьерской работы. Накануне отбила сессию, и теперь, в летнем настроении, мне хотелось далеко послать свою турфирму. Я рассталась с ней и возвращалась домой в легком головокружении от чувства свободы: больше в Москве меня ничто не держит. Так много стало простора, что я ощутила – сейчас взлечу, я как шарик, у которого оборвалась нитка, – и от слабости села. Тут-то и слетела на меня Кара.
Ворон – это вестник судьбы, и я была носителем ее в тот день: я внесла в коммуну огромную черную Кару, безвозмездный дар всей
Якиманке от провидения.
И Якиманка приняла ее так, как мог бы принять Вавилон, – она побледнела, похолодела, набрала воздуху и зашлась криком, истерией, жалобами. Мы еще ничего не успели сделать, как только вошли в вечно наполненный коммунальный наш коридор, как все пришло в такое движение, что Кара взмыла под потолок и принялась качаться там на рожке с лампочкой.
– Это немыслимо! – орала Якиманка.
– Это неслыханно! – поддакивала она сама себе.