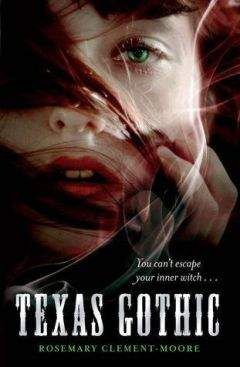Я кивнул. На нем была светло-коричневая кожаная куртка, рубашка навыпуск в красную и синюю клетку и светлые джинсы. Мы улыбнулись друг другу. Он снял куртку, повесил ее на стул и сел.
«Кто бы сомневался, что ты опять опоздаешь, счастье мое!» — сказал он появившейся Кристине. Они все время называли друг друга «солнышко», «зайчик», «мышка». И все потому, что им не нравились люди, употребляющие такие слова. Они пытались их передразнивать. Но постепенно и сами привыкли. Уже не чувствовалось, что они кого-то передразнивают. Как бы погано им ни было — все равно: они буквально тонули в «кошко-мышко-солнышках». И звучало это так же отвратительно, как у других. Если не хуже. А я все время задавал себе вопрос, что такого они нашли друг в друге. Он жирный — она стройная, он под два метра — она маленькая, все оборачивались на нее, потому что она была хороша. И на него тоже оборачивались, но не из-за его небесной красоты. И ничто не предвещало того, что мы трое окажемся в одной не очень счастливой упряжке.
Слышу, как скрипят тормоза. Поезд останавливается. Вокзал. Нет, не просто вокзал, а остров желтых огней. На одеяло падает свет. Почти уютно. Появилась какая-то защищенность. Если в моей жизни вообще еще остались уют и защищенность. Выходит всего один пассажир, вот он — двигается мимо окон. И поезд снова трогается.
Генри шуршит одеялом. Потом скребет ногой по матрацу, скрипит чем-то. Наверное, сейчас он поднимет голову. Голос его звучит четче и тверже и уже не так мрачно. Слова обращены не только к подушке. Слышно, как он трет ладонью наволочку, как будто ласкает собственную душу.
— Ну, в общем, в тот раз мы сидели втроем. Йенс пил колу и ел огромный чизбургер, который держал своими розовыми — нет, не ладонями — лопатами. Он сдавливал булку так сильно, что соус все время капал на тарелку. Кристина клевала какой-то салатик. Я прекрасно помню, как она клада на колени салфетку. Это было ужасно мило. Ее движения, руки, касающиеся ткани. И сама салфетка. Прямо на бедрах.
Йенс рассказывал, как раньше он проводил летние каникулы: «На летние каникулы я всегда ездил в санаторий на Балтийское море, чтобы сбросить вес. Каждый год. И каждый раз действительно худел. Килограммов на пятнадцать. Но эффекта никакого, потому что я тут же снова возвращался на исходные позиции. Из-за того, что много жрал. Пока я торчал в этом чертовом санатории, родители с сестрой все время путешествовали. По Австралии, например». Проглотив очередной кусок чизбургера, он продолжал: «Когда я родился, я уже весил больше десяти фунтов».
Кристина вытащила из лежавшей на столе пачки сигарету. Задула спичку и бросила ее в пепельницу. Йенс взял свой стакан и поднес его ко рту так близко, что ледышки застучали о зубы.
Я смотрел на входивших в ресторан парня и девушку. Они шли легкой походкой, взявшись за руки. Обоим лет по двадцать. Девушка подошла вслед за парнем к столу, буквально в двух шагах от нас. Он сел. Она немного подождала, а потом тоже скользнула на стул.
Она была замечательно хороша. Длинные светлые волосы, короткая черная юбка, облегающая белая кофточка. Между передними зубами — маленькое серебряное колечко. Парень был черноволосый, коротко стриженный и загорелый, возле губ — жесткие складки. Они не разглаживались, даже когда девушка хихикала и громко сообщала, что она буквально с ума сходит от радости. Что этот день, который они провели вместе, великолепен до безумия. Я запомнил эту парочку еще и потому, что в какой-то момент снова повернулся к Йенсу и понял, что он тоже их разглядывает. Тут я впервые заметил выражение его глаз. Потом я видел это выражение много раз. В таком взгляде людям просто нет места. Он долго таращился на парочку. А потом посмотрел прямо на меня и сказал: «Быть жирным — это довольно просто: все над тобой смеются, девушки тобой не интересуются, а собственный отец заявляет, что за каждый сброшенный фунт готов платить по сто марок. Другими словами — просто отпад». Он хотел сказать что-то еще, но тут подошел официант, чтобы забрать пустые тарелки. Когда он отошел, Йенс обратился к Кристине: «Ну а ты что скажешь, зайчонок? Что ты скажешь, а?» Кристина стряхнула пепел. «А что я должна сказать? Что у тебя крыша поехала?»
Знаешь, у нее легкий французский акцент. Настолько легкий, что большинство этого просто не замечают. «Ну уж нет, не увиливай. Мышонку явно есть что сказать. Насчет крыши, это ведь ты серьезно». Он улыбнулся. «Вот уж правда, — воскликнула Кристина, — у мышонка всегда найдется, что сказать. И насчет крыши, это я действительно серьезно». Ее глаза вызывающе заблестели.
Надо мной что-то промелькнуло. Я не сразу понял, что это болтается рука Генри. Он свесил ее со своей верхней полки. Смотрю в окно — там абсолютно ничего не разобрать.
— Знаешь, говорят, что нет ничего постоянного. Все течет, все проходит. Человек не может сохранить при себе что-то неизменным на своем долгом пути. И самое главное — человек ведь тоже не бесконечен. Люди из-за этого злятся. И часто говорят, что время должно остановиться.
Чтобы некоторые вещи никогда не исчезали. Чтобы оставались незыблемыми. Они никак не могут понять, что время должно идти. Ведь только движение времени может удовлетворить стремление к бесконечности, к вечности. Время должно идти. Предметы должно смывать волной. Чтобы о них можно было вспоминать. Чтобы они оживали в воспоминаниях. Тогда они останутся у человека во время его пути, может быть даже навсегда. Следовательно, возможно и то, что тогда мы сами тоже будем существовать бесконечно долго. Ты меня слушаешь? — Да.
— Вызывающий блеск ее глаз. Как ты думаешь, его тоже должно смыть волной?
Оона. Мои воспоминания об Ооне. Сколько нам было? Пять? Шесть? Семь? Восемь? Пока она не переехала? У нее были каштановые волосы до плеч. Нежное лицо. Изящные черты. Бледная кожа. Тонкие губы. Во всем облике что-то ранимое. Мама все время старалась ее чуточку принарядить и всегда перебарщивала. Когда я про нее вспоминаю, то вижу маленькие голубые бантики у нее в волосах. Я часто приходил к ней домой, мне хотелось играть вместе с ней маленькими пластмассовыми фигурками — уродцами, которых в то время можно было купить в любом магазине. Но родители не разрешали Ооне брать в руки такую гадость. Ее отец целыми днями торчал дома, потому что у него была какая-то болезнь, говорить о которой запрещалось. Он сидел на тахте в гостиной. А я тайком проносил уродцев под свитером и проходил мимо него, поднимаясь наверх, в комнату Ооны. Сегодня открытка от нее висит у меня на кухне в берлинской квартире. Приклеена скотчем к кафелю. На открытке — летний домик где-то в Швеции. Надпись на обратной стороне не видна, но я знаю ее наизусть: «Дорогой Пауль, извини, что долго не отвечала. Много путешествовала». Однажды я был в ее городе. Позвонил, зашел. Потом все время слал сообщения на мобильник. Но она так ни разу и не ответила.
Генри продолжает свой рассказ:
— Мы еще какое-то время сидели в том ресторане. Официант принес три коктейля и отошел. Кристина снова закурила. Она осторожно тыкала сигарету в пепельницу и играла с лежащим в ней пеплом. Йенс чуть съехал на стуле и опять таращился на чертову парочку. Я тоже на них посмотрел. Перед ними уже появилась какая-то еда — не помню, что они ели. В любом случае, девчонка спросила у парня, можно ли ей забрать лежащие на его тарелке оливки. Йенс уставился в какую-то точку на столе. Мой взгляд остановился на его мясистой шее, почти такой же толстой, как и его лицо.
Он сказал: «Все девицы бегают исключительно за абсолютными идиотами. Я знаю, что говорю штампами. Но этот штамп — правда. Девицы делают вид, что для них важны только сердце, нежность, ранимость, душа и прочая лабуда. Но это не так. В тысячу раз больше они ценят совсем другие вещи. Прикольный, красивый, танцует рок-н-ролл. И мужики тоже. С той лишь разницей, что девицы делают вид, что это не так. Это и есть самое противное. Совсем они не бедненькие, не беспомощные и вовсе не обделенные. По крайней мере те, которых я знаю. Они расчетливые и мерзкие». Йенс взялся за соломинку, на секунду закрыл глаза и сделал несколько глотков. Я наблюдал за тем, как официант прошел через зал, подошел к стойке и обслужил клиента. «И почему же, — продолжил Йенс спустя какое-то время, — почему девицы тянутся к этим хмырям? Да все из-за материнского инстинкта — защитницы! Если уж им действительно нужен кто-то, кого на самом деле окружают мерзость и гадость, то они должны западать на меня».
«А ты считаешь, что у тебя нет подружки из-за того, что никто не пытается защитить тебя грудью?» — спросила Кристина, презрительно приподняв брови. — «Давай не будем об этом. В таких как я девушки tie влюбляются». — «Если ты и дальше будешь так думать, тогда действительно ни одна не влюбится». Она сделала последнюю затяжку. Потом раздавила сигарету в пепельнице. Показалось, что на секунду глаза Йенса заволокло тоской. Но потом он снова улыбнулся: «Мне все равно. Не нужна мне никакая подружка. Сейчас мне гораздо приятнее съесть пару шоколадных пирожных с орехами в ванильном соусе. Они ведь есть в меню, а, Генри?» И он завертел головой в поисках официанта.