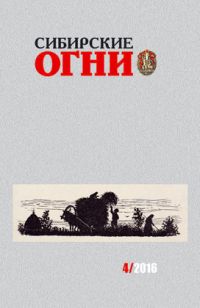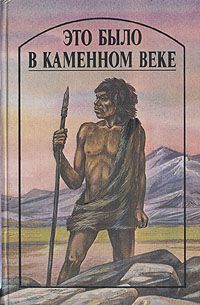Я объяснил пассажирам, что человек пострадал от любви и ему негде принимать душ с шампунем.
— Ладно уж, раз от любви, — громко разрешил женский голос с заднего сиденья. — Ехай, милок!
— Так бы сразу сказал, что из-за бабы! — буркнул водитель, давя на газ.
Хороший все-таки у нас в Сибири народ!
По прибытии я купил в магазине водки и палку сырокопченой колбасы. Хотел взять замороженных пельменей, но вспомнил, что у Сергея вряд ли имеется под рукой электроплитка. Серый терпеливо дожидался у дверей: охранник тормознул его из-за антисанитарного вида.
— Это ты зря, мы б костерчик соорудили!.. — на секунду расстроился Серёга из-за пельменей, не уставая, впрочем, повторять: удачный день, сегодня удачный день!..
День и впрямь был удачным. Спустя час в подвал влез Олег с буханкой хлеба, вялым фаллосом ливерной колбасы, суповым пакетом, двумя подгнившими мандаринами, луковицей и литровой бутылью воды из-под колонки. Володя сообщил, что за день поднял кроме мелочевки червонец и полста. Выпили за процветание малого бизнеса. Я всучил хозяину последнюю сотенную. И тут Серёга-Первый заплакал — две светлые полоски пробороздили чумазую рожицу. На месте кудрявого чуба лоснилась лысина, на лысине темнела свежая ссадина.
— Кто это тебя, Серый? — спросил я.
— Ерунда, Гендос, мелочи жизни! Работа у нас вредная. Наливай… Будет день — будет ириска!
Серёга погладил лысину и захихикал, чернея ртом. Олег захохотал.
Хозяин вызвался проводить гостя.
Должно быть, мы представляли странную пару, если по пути нас остановил милицейский наряд. Сержант полистал мой паспорт и начал светить фонариком в Серёгину физиономию. Серый прищурился и стал поправлять несуществующий чуб. Заплетающимся языком я принялся объяснять, что человек пострадал от любви. Как ни странно, довод подействовал.
Уже из салона маршрутки, потерев замерзшее стекло, увидел, как Серёга-Первый поднял что-то из снега и быстро, не оглядываясь, пошел прочь.
Я вспомнил, от чего пострадал Серый (кто-то из городских говорил в бане). В смуту шел в гору, кидал партнеров, менял девок, как фантики. Потом женился на красавице, детей завел. И бросил семью ради богатой и немолодой. Но богатая через год нашла себе моложе, а жена с детьми обратно не приняла, отжала квартиру.
И в любви он смотрел вниз. Ниже пояса, под ноги. А надо бы, брат, на звезды.
Человек — последняя тварь, привыкает ко всему. Эту сентенцию повторяет смотрящий, расхаживая меж нар и брезгливо воротя нос. Уж очень сия максима ему нравится.
В старом Китае должника заточали в деревянный ящик, лишь бедовая головушка да правая рука торчали наружу. И торчали на тысячу ли окрест живым иероглифом чисто иезуитски — в зной и зимой, пока родные и близкие не вырубят из семейного бюджета столько-то ланов серебра, требуемых по вердикту китайского мандарина. Вырубят буквально. Зубилом. Кусочки драгметалла, свободно конвертируемая валюта Степи, ланы и цины, вырезались, что тесто для пельменей. Для чего нагретый кусок серебра предварительно раскатывался до формата противня. В противном случае должник сидел в деревянной клетке до второго пришествия с севера тумэнов Чингисхана. Чалился, что селедка под шубой.
При этом пенитенциарная система Поднебесной подразумевала содержание подследственного за собственный кошт. И не отрубала правую кисть должника (отсекали воришке, с которого взять-то нечего, кроме серебряных пятен пота на рубище), а оставляла поверх ящика как рычаг для кормления. Так как досмотра передач в тамошнем СИЗО не было, то кормить разрешалось чем угодно. Даже рисовой и молочной водкой, кои сердобольные родственники для смягчения участи (и арестант слезно просил) носили бараньими бурдюками.
И что вы думаете… Древние хроники, включая «Книгу гор и морей», отмечают: злостные нарушители режима, режима питания, спивались, уходили в запой, хотя далеко вроде не уйдешь, и отказывались вылезать наружу, даже если родня, скрипя зубами, таки вырубила требуемые ланы-цины из родоплеменного куска серебра и внесла их в казну мандарина!
Загремел я на нары в разгар лета, когда тополиный пух на выносных столиках лип к пролитому пиву, что вокзальная шалава к командировочному, в камере-хате стояла духотища и вонь «носкаина». Почище кокаина и клея «Момент», однако. Понюхаешь — и моментально заколдобишься. Я думал, не выдержу и дня. А вот уже снег тополиным пухом липнет к узкой оконной решетке. И скоро Новый год.
В камеру передали маленькую пластмассовую елочку. Ее водрузили повыше, примотав скотчем к трубе у воздухозаборника, чтобы видели все.
* * *
Если в доме пахнет мандаринами, значит, скоро Новый год. Только не китайскими, а абхазскими мандаринами. В самом деле, мандарины-начальники за Великой стеной могли пахнуть разве что перегаром от рисовой водки и уткой по-пекински, выкушанными на долговые куски серебра. Мандарины же из Абхазии быстро портились, потому что выращивались без химических приправ и покупались за пару недель до новогоднего застолья, не раньше.
Для меня Новый год — прежде всего мама. Худенькая, с натруженными руками, в великоватом байковом халате с вечными следами от свежей готовки, не говоря о фартуке. Она была прирожденной хлопотуньей: потерянная, несчастная бродила по квартире, когда дела не находилось, и жалобно бормотала, что у нее ноют руки. Без работы. Вены на узкой подростковой руке вздувались, как у грузчика, и уже позднее, к концу жизни, ее пальцы, знавшие лезвие ножа, ребра стиральной доски, половую тряпку, кипяток и соду — но и клавиши! — страшно искривились. По воскресеньям мама выпаривала белье в огромном чане, лихо орудуя палкой, а я, если папа был в загуле, носил дрова из сарая. К старости мамина правая рука напоминала клешню. Играть полонез Огинского на стареньком пианино стало практически невозможно. Мама переживала, но по-прежнему умудрялась меж хозяйственных хлопот подкрашивать ногти бесцветным лаком. Декабрьские деньки были ее страдой. С некоторых пор, класса с пятого, я думаю, стараниями мамы в мажорное мандаринное облако под занавес года то и дело вторгались элегичные луково-селедочные нотки.
— Как вы сказали? Селедка под шубой?! — врезалось в память восклицание мамы в парикмахерской, где она делала прическу под Эдиту Пьеху.
Перманент, мелкую завивку под барашка, столь популярную у работниц общепита, мама недолюбливала. Она училась в консерватории. В доме имелся камертон, похожий на идеальную рогатку без резинки. Пока мама записывала в очереди рецепт, я с ужасом представлял на тарелке овечью шерсть в рыбной чешуе.
Ох не зря мандарины в этом рассказе настроены под камертон селедки, чуяло мое естество с самого дремучего детства… Мама заставляла вынимать косточки из распластанной рыбной тушки, жирной и склизкой. Это напоминало выдергивание прожилок из мясистых долек мандарина. Оба занятия малоприятные, нервные такие. Будешь нервным, когда тебя ждут во дворе с клюшкой, а ты голыми руками влип в пахучую историю — и, кажись, надолго. Можно дважды вымыть руки хозяйственным мылом, но ладошки все равно долго воняют. Если чистка мандаринов имела стимул, обозначаемый выделяемой слюной, то первое занятие отдавало тоской — ударение на втором слоге, в хвосте рыбы. Потому что была еще ария Тоски, которую напевала мама, часто стуча ножом, нарезая кубиками картошку, свеклу и морковь для селедки под шубой. Оставалось уложить их слоями и заправить.
А вот майонеза не было в помине. Главное отличие праздничных закусок и салатов моего детства: они заправлялись нерафинированным маслом и сметаной. Даже селедка под шубой, которая по популярности соперничала с оливье. Салат из квашеной капусты на всякий случай прохлаждался на подоконнике, пока гости квасились в прихожей. Хотя, на мой взгляд, салату из капусты, да еще с лучком, политым маслом, самое место на столе, а селедке, да под шубой, лучше плавать в проруби.
Дверь могла без стука распахнуться и войти соседка, спросить соды или соли…
Непонятно, почему мама акульей хваткой вцепилась в эту селедку. Мама так надоела всему дому своим открытием, щебеча в предновогодней лихорадке про изумительные вкусовые качества новомодного рыбного блюда, рецепт которого ей дали по секрету в лучших домах Бурят-Монгольской АССР, что сосед Емельянов в сердцах брякнул маме:
— Иди ты, Пьеха!.. Сама ты селедка под шубой!
Сам Емельянов был под мухой.
И мама заплакала.
Дело в том, что у мамы была старенькая мутоновая шуба. Со временем классный, шоколадной масти мутон превратился во что-то мутное, но с претензией на путное. Шубу она по осени вычесывала, пытаясь распушить тающий, что снег на асфальте, мех, носила в химчистку подкрашивать. Тщетно. Шуба катастрофически линяла, переливаясь от свекольного до морковно-картофельного колеров, холера ее раздери, белея проплешинами на полах и в вороте — словно пьяница, опрокинув рюмку, с размаху вторгся вилкой в слои рыбного салата, беспардонно разворошив и смешав цвета. Мама отважно заделывала лысеющие краешки шубы обрезками от моей шубки, в которой я ходил еще в детсад. Наверное, можно было выпилить из семейного бюджета ланы и цины серебряной мелочи, но тут подвернулся мужской кожаный реглан. Шик-модерн! От обновы папа отнекивался вяло, любил погулять, покрасоваться, а мама любила его, вот и все — факт не обсуждался. Тот и этот.