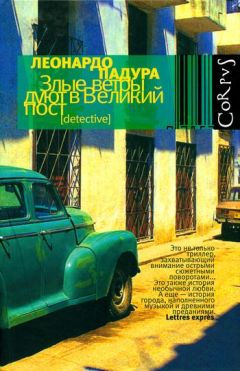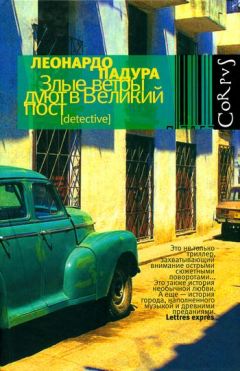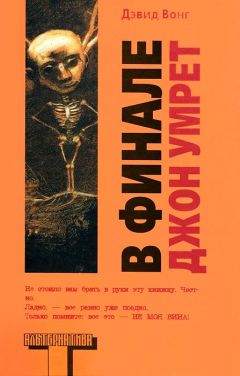Самое время еще раз отвлечься в компании Тощего Карлоса и бутылки рома, решил Конде, снова надел рубашку, запер дверь и нырнул в уличную пыль и ветер, отметив про себя, что, несмотря на дни Великого поста, которые всегда выводили его из душевного равновесия и ввергали в уныние, сейчас он принадлежал к редкой породе полицейских, которые вот-вот будут счастливы.
— Рассказывай, какая муха тебя укусила!
Конде едва заметно улыбнулся, посмотрев на друга, и подумал: ну что я могу тебе рассказать? Каждый из почти трехсот фунтов этого неподвижного тела в инвалидной коляске вызывал острую боль в его сердце. Ему казалось жестоким делиться своими счастливыми ожиданиями с человеком, для которого все радости в жизни ограничены беседой под выпивку, обильной трапезой, достойной Пантагрюэля, и фанатичным увлечением бейсболом. С той поры как Тощий Карлос, который давно перестал быть тощим, получил пулю в Анголе и навсегда сделался калекой, Конде постоянно мучился нестерпимой жалостью к нему и угрызениями совести, словно был в чем-то виноват перед другом. Неужели я должен врать и ему тоже? Что бы такое придумать? — размышлял Конде и опять невесело улыбнулся, заодно вспомнив, как медленно шел мимо дома Карины и даже остановился, напрасно высматривая через выходящие на улицу окна ее силуэт в сумраке гостиной, но разглядел только множество комнатных растений — папоротники и декоративные маланги с красной и оранжевой сердцевиной. Как могло случиться, что он до сих пор ни разу не видел эту женщину, хотя таких обычно чуешь издалека? Конде допил свой ром и наконец ответил другу:
— Вообще-то я хотел тебе соврать.
— А тебе это надо?
— Знаешь, Тощий, я не такой, как ты думаешь. Не такой, как ты.
— Вот что, приятель, если опять собрался гнать свою байду, скажи сразу, — Тощий поднял руку, прося молчания, а второй поднес ко рту стакан с ромом, — чтоб я знал с самого начала. В любом случае помни одно: ты не самый лучший человек на свете, но ты мой лучший друг. Хоть и доканываешь меня своим враньем.
— Так вот слушай: я тут встретил одну женщину и, кажется… — начал было Конде и посмотрел Тощему Карлосу в глаза.
— Черт! — воскликнул тот и тоже улыбнулся. — Вот оно что! Вот, значит, в чем дело. И ты, похоже, неизлечим, так?
— Усохни, Тощий, посмотрел бы ты на нее! Не знаю, может, ты даже видел эту девушку, она тут за углом живет, в соседнем квартале, зовут Карина, работает инженером, рыжая такая и красоты неописуемой. Она у меня из головы не идет! — Конде потыкал пальцем себя в лоб.
— Это ж какая будет по счету… Угомонился бы ты! Ты что, с ней уже переспал?
— Если бы!.. — вздохнул Конде, сделав безутешное лицо.
Потом налил рома и принялся рассказывать о своей встрече с Кариной, не упуская ни одной подробности (не скрывая даже некоторых ее недостатков в том, что касается зада и бедер, потому что знал, как много значит хорошая задница в системе эстетических критериев Тощего), не утаив своих переживаний (в том числе упомянул и про сегодняшнее мальчишеское подглядывание в ее окна). Он всегда в конечном итоге выкладывал другу все без утайки, какой бы ни была история — смешной или страшной.
Конде увидел, что Тощий безуспешно пытается дотянуться рукой до бутылки, и подал ее другу. По уровню жидкости, который уже опустился ниже этикетки, он прикинул, что для продолжения беседы может понадобиться второй литр, а сыскать ром в Ла-Виборе в такой поздний час может оказаться задачей невыполнимой — пробегаешь попусту и только расстроишься. А жаль! До чего же хорошо беседовать о Карине, сидя в комнате Тощего среди дорогих сердцу старых вещей и выцветших афиш, оставшихся с тех добрых времен, когда весь мир для них вращался вокруг какой-нибудь соблазнительной попки, пары упругих грудей и, самое главное, того притягательного, завораживающего отверстия, при обсуждении которого они всегда пользовались такими понятиями, как плотность, глубина, волосяной покров и способы внедрения (нет-нет, ты только посмотри на ее походку; если она девушка, то я — вертолет, бывало, говорил Тощий), не уделяя особого внимания самой владелице вожделенных предметов.
— Ты, дурила, не меняешься, не знаешь ни хрена про эту женщину, а уже трешься вокруг нее, как похотливый пес. Пролетишь так же, как с Тамарой…
— Нашел с кем сравнивать…
— Да ладно! Знаешь, ты кто?.. А это точно, что она живет тут рядом? Послушай, а она тебе мозги не пудрит?
— Да нет же, старик, нет! Тощий, я должен заполучить эту женщину. Либо она станет моей, либо я себя убью, или умом тронусь, или стану педиком.
— Лучше педиком, чем жмуриком, — с улыбкой заметил Тощий.
— Нет, в самом деле, Тощий. У меня и так никакой жизни… Мне нужна именно такая женщина — пусть я ее почти не знаю, но она мне нужна!
Тощий с жалостью посмотрел на него, будто говоря: ты неисправим.
— Знаешь, меня не оставляет ощущение, что тебя опять заносит… До чего же тебе нравится наступать на старые грабли… К примеру, ударила моча в голову — подался служить в полицию, а теперь плачешься. Ну так пошли их всех к черту и уволься, балда! Только после не говори мне, что в глубине души тебе доставляло удовольствие портить жизнь всяким козлам и ублюдкам… Но снова терпеть твои причитания я не собираюсь. А та заморочка с Тамарой тебе на роду была написана: эта баба по жизни не для таких, как ты и я. Забудь о ней раз и навсегда и пометь в своей автобиографии, что ты по крайней мере избавился от этого зуда и сумел выкинуть ее из головы. И гори оно все синим пламенем! Давай-ка лучше выпьем. Кинь сюда ром.
Конде с тоской посмотрел на бутылку, понимая, что не хватит. Он надеялся услышать от Тощего совсем другие слова. В эту ночь, когда снаружи ветер взметал вороха всякой дряни, а в глубине души у Конде, в каком-то очень укромном уголочке, теплилась посеянная той женщиной надежда, он испытывал ощущение чистоты и свежести, сидя в комнате своего закадычного друга и разговаривая с ним о человеческом и божественном. А если Тощий помрет, что мне тогда делать? — подумал Конде, враз нарушив воцарившийся было внутри душевный покой, и решил продолжить алкогольное самоубийство — налил рома другу, плеснул в свой стакан и только тогда сообразил, что они еще ни словом не обмолвились о бейсболе и не слушали музыку. Поразмыслив, Конде выбрал музыку.
Он встал, выдвинул ящик с кассетами и, как всегда, немного растерялся при виде мешанины музыкальных вкусов Тощего: от битлов и мустангов до Жоана Мануэля Серрата и Глории Эстефан.
— Чего поставим?
— Битлов?
— «Чикаго»?
— «Формулу-пять»?
— «Лос Пасос»?
— «Криденс»?
— Заметано, криденсов… Только не талдычь опять, что Том Фогерти поет как негр, потому что я тебе уже сказал: он поет как бог! Так или нет?
И оба согласились — да, да! — в подтверждение глубочайшего совпадения их взглядов: этот чертов… действительно поет как бог.
Бутылка опустела, прежде чем закончилась долгая версия Proud Mary.[1] Тощий поставил свой стакан на пол и подкатил коляску вплотную к кровати, на которой сидел его друг-полицейский. Он положил пухлую руку на плечо Конде и сказал, глядя ему в глаза:
— Брат, я хочу, чтоб у тебя все наладилось. Хорошие люди заслуживают большего везения на этом свете.
Это верно, подумал Конде; он не знал человека лучше Тощего, и тому страшно не повезло в жизни. И чтобы справиться с нахлынувшей на него волной нестерпимой жалости к другу, он выдавил улыбку и сказал:
— А теперь ты сам байду гонишь, олух. Хороших людей на этом свете уже не осталось.
Конде встал с кровати, желая обнять друга, но не решился. Ему всю жизнь не хватало смелости на сотни и сотни разных поступков.
Никто и представить себе не может, что чувствует ночью полицейский. Никому не дано знать, какие призраки его навещают, какие лихорадки одолевают, в каком аду поджаривается он на медленном огне, а то и объятый жгучим пламенем. Бывает, только прикроет веками усталые глаза, как тут же начинается жестокое испытание — пробуждаются тени прошлого, которые навсегда засели в его памяти и приходят к нему ночь за ночью с неумолимостью маятника. Непростые решения, непростительные ошибки, применение силы и проявление слабости и даже сотворенное добро возвращаются неоплатными долгами перед совестью, израненной большими и маленькими подлостями, совершенными в мире подлецов. Иногда мне является Хосе де ла Каридад, чернокожий водитель грузовика; он просил, умолял не отправлять его в тюрьму, твердил, что не виноват; я вел допрос четыре дня подряд и был уверен, что это его рук дело, больше некому; негр катался по полу, плакал и повторял одно и то же, и я посадил его в предвариловку до суда, который признает его невиновным. Временами приходит маленькая девочка Эстрельита Риверо; я лишь на секунду не успел удержать ее от рокового шага навстречу пуле, которую из пистолета всадил ей меж бровей сержант Матео, стрелявший по ногам убегающего преступника. А еще возвращаются из прошлого и небытия Рафаэль и Тамара и, как двадцать лет назад, танцуют вальс, он — в костюме, она — в длинном белом платье, похожем на свадебное, хотя невестой стала чуть позже. Безрадостны ночи полицейского, не утешают даже воспоминания о последней близости с женщиной или ожидание новой, потому что все воспоминания и все ожидания — кои в свою очередь превратятся в воспоминания — испачканы мерзостью повседневного существования полицейского. С одной женщиной я познакомился, когда расследовал обстоятельства смерти ее мужа — мошенничество, обман, шантаж, злоупотребления и страх человека, казавшегося безупречным на высоте своего служебного положения. Другую буду помнить в связи с каким-нибудь убийством или изнасилованием, с чьей-то трагедией. Ночи полицейского текут мутной водицей с душком и выцветшими образами. Спать… Или хотя бы забыться. Я знаю один способ одолеть проклятые ночи — надо напиться до бесчувствия, что равносильно маленькой смерти каждый день и самой настоящей смерти по утрам, когда веселое солнышко становится пыткой для глаз. Ужас минувшего, страх перед грядущим — с такими муками дотягивает полицейский до наступления дня. Схватить, допросить, посадить, осудить, приговорить, обвинить, пресечь, поймать, заставить, подавить — эти глаголы спрягаются в его воспоминаниях, и в них — вся жизнь полицейского. Я мечтаю о том, чтобы мне снились иные, счастливые сны, чтобы созидать, обладать, отдавать, обретать, творить — писать! Но все это останется лишь бредовыми фантазиями, а пока только и делаешь, что разрушаешь. Вот почему одиночество полицейского есть самое жуткое из всех одиночеств: он существует в компании призраков, терзаемый своей и чужой болью, расплачиваясь за свои и чужие грехи… Хоть бы одна женщина убаюкала полицейского, сыграв ему колыбельную на саксофоне… Но тихо! Ночь наступила. Снаружи адский ветер опаляет землю.