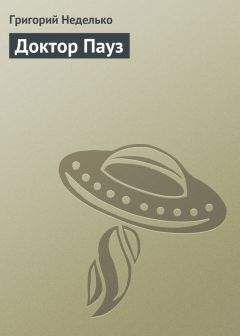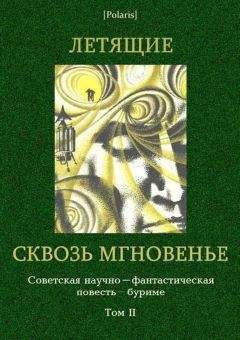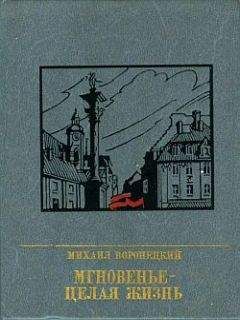Не одолел, нет, но положил себе тогда, после его смерти, Чупахин – не исчезнет. Он, дескать, напишет про него, расскажет, какой Николай Федорович (Коля) был хороший да благородный, как легко ему, Чупахину, подле него дышалось. Как он, к примеру, отказал в рекомендации в Союз: был уверен, дадут другие, а ему, мол, не совсем по душе чупахинские «завивы и извивы»; но, когда после подсчета шаров выяснилось, что Чупахина – «за дерзости» – утопили, он, Коля Колодей, вскочил в задних рядах, подброшенный пружиной негодования.
– Гниль! – трепеща и задыхаясь, выкрикнул он. – Гниль в Датском королевстве!
И, разумеется, это было прекрасно. Это было то самое. Для Чупахина-то.
Теперь вот, сняв скрепочку, он читал об этом спустя десять лет.
«Мой дар убог, и голос мой негромок...» Эх, как было б замечательно и отлично, кабы дело обстояло именно так. Но было не так. Было беспомощно, неубедительно и фальшиво. Утешать себя даже негромкостью означало обезнадеживающе автору льстить.
У того же Колодея всё было иначе. Он не филосовствовал, не рефлексировал, действуя без затей на самых безусловных ответвлениях ствола известного древа; зато хватало силы быть искренним, музыкальным и понятным большинству адресатов. Отец его, к примеру, был заводской возчик, грезивший про себя беспрестанно неведомо о чем. О чем – Коля Колодей оповещать и не собирался.
Мать «хлесталась» по хозяйству.
«Верила не в Бога, а в то, что жить надо. Необходимо. И что впереди будет лучше. Не может не быть: ведь за что-то хлещется человек»[3] .
И Коле – хватало. «За что-то...» Чупахину же одно и было по-настоящему интересно – за что? То бишь «неназываемое и сокрытое», что, как подозревалось, отыскивается ощупью средь самых тоненьких, угадываемых наитием веточек... И получись у него, Чупахина, хоть единожды с подобной затеей (думал он в самонадеянные минуты) – и, кто знает, может, и Колодею не довелось бы в свою в черную минуту тащить из джинсов брючный ремень.
Но это – получись. Если бы да кабы. Очень возможно, что он и вообще шел неверной дорогой. Заблудился, да. Промазал мимо цели. Что он неудачник, авантюрист, банкрот и т. д. и т. п.
Хотя, коли и так, проку от подобных осознаний тоже уже не было.
* * *
Стенанье, гибель, смерть, позор —
Все беды,
Какие есть...
Смен было четыре. И в каждой своя команда во главе со старшим диспетчером и старшим врачом.
Для выработки на ставку выпадало в месяц семь-восемь суточных дежурств. Старожилы выражались так: «Сутки пашешь, трое отдыхаешь...»
В четвертой смене, куда попал Чупахин с невникающей подачи главврача, незнакомки от табачных ларьков на удачу его не обнаружилось. На удачу – поскольку не только к такой встрече, но и к самой работе он оказался не готов.
Он через силу привыкал к бурлящему многолюдству, к необходимым приветствиям-разговорам, к вынужденной сверхактивной внешней деятельности.
Он не умел помнить, где стоит ведро, а где лентяйка с тряпкою, забывал номера машин, путал бригады, лица, имена и отчества новых своих товарищей... Ночами не спал в мужской гридне-опочивальне, наивно тревожась и опасаясь «заспать» трубный глас из селекторной тарелки вызывающего бригаду диспетчера.
Однако же и это были пустяки с семечками на фоне той жутковатой реальности, что, совершенно пока не усваиваясь, открывалась волей-неволей на вызовах...
«Да как они могут? – вглядывался он поперву в лица фельдшеров, врачей и водителей. – Есть, строить планы, острить, беременеть?! Что это всё? Не снится ли мне всё это?»
При слабеньком свете, проникавшем из коридора в дверную щель, он смотрел на лица спящих. Они были безмятежны. В чайной на первом этаже фельдшера и врачи помоложе курили, играли в карты, рассказывали анекдоты... В комнате водителей забивали козла... В диспетчерской то и дело ели... И все наперебой (казалось поначалу) безостановочно роптали на низость «начальства» сверху донизу, кощунственно скудную заработную плату и, что особенно было в диковину, хамство пациентов.
Молодые и не очень мамаши без конца названивали оставленным дома детям. С рук на руки передавались детективы, «романы о любви», пересказывались байки с последних страниц новых этих черноклубничных газет. «Мужик приходит к врачу...»
Не забывшему зависимую беспомощность на больничной койке Чупахину было это тяжко, неприятно и удручающе внове. «Ведь они знают, видят эту всё пронизывающую боль вокруг, – недоумевал он, оставаясь один, – да разве такие должны быть у них лица при подобном знании?»
При всем при том он, вчерашний их пациент и человек, стало быть, с другой стороны баррикады, по-прежнему до раболепия благоговел пред ними... Ведь это они, а не всякого рода «руками водящие», выходили на огневой рубеж, на гладиаторскую арену, назови как хочешь, не посылая вместо себя кого-то, не глаголили с кафедр да в телевизионных студиях, а, не увиливая, не перепоручая и не жмуря от ужаса глаза, шли...
* * *
Возможность страсти,
Горестной и трудной,
Залог души,
Любимой божеством.
Люба, по мужу – Иконникова, была единственным и запоздалым чадом профессора-филолога небольшого прибалтийского университета.
Отец читал древнерусскую литературу нерусским, но тогда советским еще студентам, а мать работала на кафедре ассистентом.
Некоторую известность в профессиональных кругах «школа» отца приобрела не по причине самобытной первичности филологических идей нарождающейся в ту пору дисциплины, а, скорей, смелостью «научного поведения» молодого и в меру диссидентствующего его окружения.
Отец, фронтовик и орденоносец, вступил в коммунистическую партию «за час до атаки» с товарищами по взводу, а после, когда обнаружилось иное интересное времечко, когда кто втихаря, а кто демонстративно-почтительнейше возвращал билет в комцарствие божие, он, не входя ни с выбывшими, ни с остающимися в объяснения, продолжал платить партийные взносы.
Отклоненные работы, как в научных, так и в иных журналах, до самой его смерти лежали в столе, ни разу не вызвав у него каких-либо возражений сим обстоятельством, выраженного вслух недовольства, публичных выпадов либо по-человечески понятной жалости к себе. Там, на войне, по робкому предположению Любы, он узнал, «узрил сердцем» нечто такое, что раз и навечно избавило его от труда «сражаться за свои убеждения».
В силу нежеланья его влиять на свободу воли учеников, а также географической удаленности университета от центров, источающих способ понимать вещи, аспиранты, а позднее (частью) и докторанты отца ощутимо мало кривили душой, и такая-то мелочь если не дала миру заметных литературоведческих открытий, сделала большее – сберегла им всем вместе воздух для дыхания...
В этой-то наперегонки острящей фронде, где в подлиннике читали не только Марка Подвижника, но и – на выбор – в английском ли, французском варианте Сэмюэля Беккета, росла и расцветала маленькая Люба, с почти равной охотой обучаясь музыке, спортивному рок-н-роллу, айкидо и какой-нибудь встрече чувств за чайным, рождающим экзистенциальную тишину церемониалом...
Когда пришла пора выбирать профессию, она, поколебавшись меж ветеринарией, психологией и медициной, выбрала все-таки последнюю. Ей нравилось стоическое смиренье коровы, безмолвие лошади и са-моотверженье собаки, но их зависимость, отраженная их мука напрямую – к причине – вели к хозяину-человеку, к его тайне, к его, быть может, ненапрасной, безумной на что-то надежде...
Денди-интеллектулы, устроившие свою жизнь между пятью «за» и пятью «против» пресловутыми кантовыми доказательствами и столь многому научившие ее в отрочестве, семнадцатилетней увиделись ей вдруг легонькими заигравшимися в бисер белоручками, обреченными на писаные предисловий и послесловий к чужим «открывающим истину» трудам, на гедонические в сути женитьбы-разженитьбы, прогрессирующее – с алкоголем или без – ожирение и невнятную, не итожащую ничего смерть.
По прошествии лет она, разумеется, горько раскаялась в ювенальном своем ригоризме, но в ту пору, по совпаденью, подстригся в монахи один, лучший из них, любимейший ученик отца, а ей, Любе, до восторга восхищенной его поступком, все – включая себя, – не способные к нему показались просто «хороняками» и «выживалами», чем-то вроде сорванной либо полусорванной с резьбы гайки...
Отзубрив-отдолдонив два курса в питерском меде самое тяжкое, на третьем она устроилась дежурить санитаркой, а потом медсестрой в плановую хирургию и сама мало-помалу заболела, заразилась столь льстящей сердцу человека идеей служения. Читала «Письма из Ламберена»[4] , «Записки врача»[5] , любимые свои «Очерки гнойной хирургии»[6] .
Плакала, рвалась...
Получив диплом, возвратилась домой и, воспользовавшись протекцией отцовского фронтового друга, устроилась интерном, а затем вольнонаемной в госпиталь дислоцированного в их городе энского военного округа.