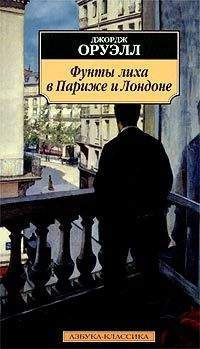Пробегаю через разномасштабные кубатуры, миную фракталы жизней, гулкие залы учреждений, фрагменты комнат, ловушки лестниц.
Адресаты писем сумки моей давно знакомы мне, меня уже не удивляют фамилии Клупт, Ларри, Ласавио, Лила, Овэс, Ник-Бродов; получат свои открытки и конверты толпы Петровых и Степановых, Пик (не мышонок), пять Лавровых, десять Лебедевых, множественные Лившицы вкупе с Лифшицами и уникальный Лопшиц, а также Нюбом и Люком, Однопозов, Онисифоров, Нецветайло, Нечитайло, Побегайло и Погоняйло, Малоглазов с Малоземовым, два Погоста, Северинова и доктор Гибель.
Вот отмелькал горячий цех с паром и звоном, остался позади въедливый запах прозекторской, отпустили меня регулярные подвалы номерного НИИ, за белой летуньей выбегаю я в зеленый прямоугольник казенной двери — и останавливаюсь, потому что бабочка моя пропала, а города больше не видно, хоть мы и неподалеку от Московского универмага; город исчерпался, впереди зеленый вал в свежей траве, за ним холм с маленькой белой церковью вроде новгородской, в сумке моей осталось одно письмо, но адреса на нем нет.
На этом сон кончается, как начался, ни сюжета, ни темы, сплошной эпизод — длиною в ночь.
Я легко нашла улицу, и дом, и двор, где некогда проживал (или еще проживает?) пославший мне открытку с летящей лебединой стаей Ю. А. Косоуров. Сев на скамейку, я закурила. Курильщицей заядлой никогда я не была, но в компании или в ответственный момент курила, как иные пьют рюмашку «для храбрости», неловко держа сигарету, не затягиваясь, старательно пуская дым.
Подошла девочка с газетой и фломастером, села на противоположный конец скамейки, решала кроссворд (как положено было в фельетонную эпоху), искоса посматривала на меня. Видела она развязную старушку, обучающуюся курить травку, удрав от своего положительного (или, напротив, хулиганствующего и пьющего) дедули, правильных детей и набалованных внуков. Девчонкины защитного цвета штаны были в сплошных карманах — до щиколоток; волосы заплетены во множество тонких косичек, как грива полюбившейся гуменнику либо баннику лошадки.
— Одногорбый верблюд, — сказала она, почти не вопрошая, нахмурив бровки.
— Дромадер, — отвечала я, пустив клуб дыма.
Вписав в крестословицу верблюда, она воодушевилась, некоторое время что-то корябала в своей газетенке, потом произнесла:
— Картинная галерея в Милане.
— Брера.
Порозовев, любительница кроссвордов полезла в верхний карман левой штанины, достала замусоленную бумажонку, вырезанную из журнала, и прочитала:
— Немецкий философ, эк-зис-тен-циалист и психиатр.
— Ясперс.
Она вмусолила в бумажонку недостающего там Ясперса и чуть дрогнувшим голосом промолвила:
— Класс!
Подумав, она решила вознаградить меня за труды и за мои, с ее точки зрения, энциклопедические познания. Слазив в нижний карман правой штанины, она вытащила две свернутые бумажонки и сказала:
— Что у меня есть…
Я молчала.
— Хотите, покажу?
Я кивнула.
На ладошке кроссвордной девочки лежал старый билет на поезд Ленинград — Москва и листок отрывного календаря 1963 года. На календарном листке химическим карандашом было написано: «Лифт».
— Про лифт не знаю, — сказала девочка шепотом. — Петька подарил. Он взял у мертвого на память. Петька в средней парадной убитого нашел. Пока Петькина мама в милицию звонила, он из кулака покойника билет с листком вытащил. Билет старинный. Он мне подарил, чтобы я с ним целовалась.
— И ты целовалась?
Средняя парадная была та, в которую я шла.
— Что мне, жалко, что ли?
— А кто… хозяина билета убил?
— Его по ошибке убили. Два тутошних наркомана. Им деньги были нужны, а у него и деньги были старинные, и вообще он был нищий, одет кое-как.
Она деловито положила свои бумажки в энный кармашек и убыла, слегка виляя задиком.
В средней парадной никакого лифта не было. Я поднялась на четвертый этаж пешком. Мне открыл молодой человек в очках.
— Я ищу Ю. А. Косоурова.
— Ищете? — спросил он удивленно.
— Дело в том… что мы были знакомы… много лет назад… вот он мне открытку прислал…
Я вытащила открытку — в качестве вещдока. Молодой человек, узнав, видимо, почерк, покивал.
— Заходите.
Я зашла.
— Я его сын.
— Очень приятно.
— Отец умер двадцать лет назад.
— А… куда мы идем?
— В его музей. Одна из комнат — музей отца. К нам многие ходят. А где вы познакомились?
— Я работала тут почтальоном…
— Да, да, отец вел обширную переписку. Можно вас попросить надеть тапочки?
Надевая на туфли музейные шлепанцы с резинками, я спросила:
— Скажите, а раньше здесь был лифт?
— Лифт? Лифтом отец называл маленькую библиотеку с лабораторией у черного хода, дом с черным ходом по старинке построили. Отец любил эту комнатушку, свой кабинет с горсточку. Вы у нас здесь бывали?
Я чуть не ответила: «Понятия не имею».
Комната, ставшая музеем, была небольшая, стены в фотографиях. На западной стене висел пейзаж (акварель с белилами): горы, цветущие деревья, выцветшая дорога, глинобитные хижины.
— Почему тут среднеазиатский пейзаж?
— Отец работал в Таджикской обсерватории, а также изучал атмосферу Сталинабада, ее запыленность, в частности.
— Пыль Туркестана, — сказала я.
— Именно так он и говорил.
Витрины вдоль стен, самодельные, списанные из пропыленных учреждений, под стеклом фото, брошюры, документы, журналы. Два листка тетради в клеточку с формулами и текстом, написанными карандашом, почему-то лежали вверх ногами.
— Почему перевернуты листочки-то тетрадные?
— Секретная информация. Чтобы никто не прочитал.
— Шпионы, — с апломбом произнесла я, — читают и запоминают все подряд, даже на шумерском. К тому же у шпиона непременно имеется микрофотоаппарат, не в глазном протезе, так в пуговице.
— Вы читаете детективы или пишете стихи?
— И то, и то, — отвечала я. — Детективы забываю, стихи жгу.
На большой фотографии Косоуров сидел на валуне, опустив глаза, глядя на сорванную ромашку, за ним в отдалении маячил подобно замку обсерваторский купол. На соседней фотографии поменьше он смотрел мне в лицо. И я узнала его светлые глаза почти без зрачков, встала передо мною картинка из детства, позабытая, затерянная, обретаемая во всей полноте.
— Я вспомнила, когда видела его в первый раз!
Сын Косоурова, очевидно, принимал меня за тронутую склеротичку. Что не помешало мне выложить возникший в воздухе эпизод.
— Мне было пятнадцать, моя приятельница взяла меня с собой в Пулково в гости к знакомым по фамилии Кайдановские. Младшие сыновья катали нас на мотоциклах. Мы гуляли по весенним обсерваторским лужкам, поднялись с дорожки на маленькое плато в высохших лужах, потрескавшаяся глинистая чешуйчатая земля инопланетного такыра, кое-где редкие пучки одуванчиков да травки-пупавки. С противоположной стороны на будущий лужок поднялся человек в клетчатой рубашке, он шел навстречу, поздоровался, поздоровались и мы, я запомнила его светлые юные глаза почти без зрачков, словно он смотрел, не мигая, на не видимое нами огромное Солнце, Solaris, запомнила военную выправку, короткую стрижку, седой круглоголовый марсианин с ушами странной формы. «Кто это?» — спросила я. «Известный ученый К. Он занимается временем». Больше я ничего о той поездке припомнить не могу. Разве что холод в обсерваторской башне да светлую занавеску на ветру, похожую на парус.
— То есть, работая почтальоном, вы познакомились с ним вторично?
— Выходит, так.
В средней витрине раскрыт был том «Архипелага ГУЛАГа».
— Ваш отец сидел?
— Десять лет лагерей. С 1936-го по 1946-й. Норильск, Воркута.
— Господи, — сказала я. — Сидел по-черному.
За что сидел, я спрашивать не стала. Однажды я так у одного репрессированного уже спросила. «Вот дура-то, — отвечал мне переводчик Петров. — Как это — за что? Да ни за что, само собой».
— Его на новогоднем балу в бывшем Юсуповском дворце арестовали, тогдашнем Доме культуры Работников просвещения. С танцев в тюрьму попал. Восходящей звездой советской астрономии считался.
Все вокруг надоело мне разом, осточертело, поблекло, покрылось пылью Сталинабада. Взорвали Дом культуры Первой пятилетки, где видела я живой театр из Генуи, чтобы разместить на этом самом месте театр мертвый. После начали разрушаться колонны Юсуповского дворца, мимо которых вели когда-то арестованного Косоурова. Что я тут делаю? Чего ищу? Какие-то паршивые два года дурацкой юности. Тоже мне, поиски утраченного времени.
Я смотрела на разномасштабные фотографии, то снимки с телескопа, то дорога в горы, то Косоуров со смеющимся юношей возле двух байдарок, а вот афиша лекции. Явившись по рассеянности в музей без очков (а я постоянно диссимулировала, разыгрывала нормальное зрение со своей-то врожденной дальнозоркостью), я перевглядывалась, теперь кружилось все, мутило, начиная с переносицы завоевывала территорию мигрень: виски-темя-затылок-вся голова…