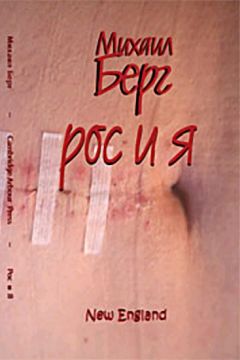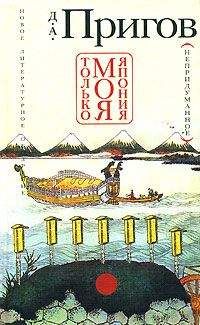Утром все было как обычно. Женщины суетились, стоял дневной бедлам, носились со своими чадами, кормили, гам, визг, смех, я не сразу все вспомнил, так, смутное ночное видение, заштрихованное и оттененное духотой, ночью, последующим сном, каким-то торопливым объятием, я мечтал о теплой воде, о том, чтобы меня помыли женские руки, растерли, помассировали поясницу — она что-то ныла, — обернулся, ища — кого позвать, и встретился взглядом с той, что разделила со мной ночное видение: я узнал ее по мелькнувшему в глазах ужасу и стеснительной улыбке, что появилась и исчезла на лице, я даже не знал, было ли у нас с ней что-либо или еще нет, и тут же вспомнил: этого отвратительного младенца, испугавшего — или нет? — меня ночью, но женщина, рыжая, узкобедрая, виновато поправившая прядку, упавшую на глаза, что видела она? — и бросил взгляд в его, младенца, угол. Около него суетились, теперь я вспомнил, кто его мать — вон та, пухлая, черноволосая, — нагнулась, что-то шепча, протянула ложечку, он запищал, я отвернулся и, посомневавшись, поманил рыжую. Она мыла меня в ванной, массировала спину, ноги, я смотрел на ее шею, рыжую гриву, тонкие запястья, руки, от которых пахло втираемым травяным настоем, потом показал на бедра; она не поняла, я ударил ее по щеке. Мне не нужна была ее любовь. Она меня не возбуждала. Я был озабочен. Проклятые мандалы.
Я не ожидал, что все повторится. Очевидно, узоры совпали. Заснул я почти мгновенно, слыша сквозь сон какой-то шепот, шушуканье, заплакал чей-то ребенок, мать дала ему грудь, он зачмокал губами, потом стало тихо, я плавал, как всегда, в липких родовых водах, напрягал жабры, собирал легкими воздух, был юрким и вертким, как тритон, а проснулся от сдавленного крика, полузадушенного ладошкой, — присел: не спали почти все, хотя и лежали не шевелясь, не меняя напряженных поз, с ужасом наблюдая, как младенец пробирается через беспорядок тел, еще более ловко, чем накануне, прокладывая себе дорогу по одеялам, подстилкам, что-то явно ища и оглядываясь, однако не замечая устремленных на него взоров либо делая только вид, и опять эта отвратительная разумность, разгладившая чело трехнедельного дитяти, который днем не умел даже сидеть, а лишь лежал, пуская пузыри, суча ножками, и истошно орал, требуя мать, чью безмятежно спящую фигуру я заметил справа у окна, а может, он искал ее? Отвратительный маленький обманщик, прикидывающийся ребенком. Что его испугало? Никто не мог пошевелиться, все просто не отрываясь смотрели, онемев от страшного обмана и ощущения опасности, чувствуя ее спиной, затекшими локтями, шелестением крови, — он плелся обратно, не найдя, не добравшись до того, что искал, разочарованно шевеля скрюченными пальчиками, склонив головку на грудь, а затем рывком бултыхнулся в кроватку.
Все было так. Я проверил. Он еще не держал головки, не следил за предметом, если предмет проносили у самого его носа, не мог ползать и только бессмысленно орал, когда я попытался его посадить. Поставить на ноги не дала его встревоженная мать, умоляюще отнявшая мои руки, а затем быстро и ловко уняла его крик, убаюкав в объятиях, искоса, опасливо поглядывая на меня. Шлепнул ее по толстому заду, как добрую лошадь, чтобы успокоить. Она была не виновата. Она мне не нравилась. Я лицемерил, я презирал ее, было досадно. Что ж — не буду спать. Выжду момент, когда все начнется, когда он станет превращаться из беспомощного и забавного освежеванного кролика в маленького наглеца, опасного и непонятного одновременно тем, что вселяет ужас и нагоняет столбняк, подготавливая задуманное им дело, гипнотизируя, лишая сил, выкачивая волю, отнимая радость и отталкивая меня от женщин. Кто следующий, думал я, осторожно осматривая их животы, вон у той, кажется, опухший, что таит ее чрево, это надо кончать, Мандала, я найду ее, перерою все книги, я уже догадался, почти, почти, где-то близко, что тебе надо? Нет, мы поборемся, я еще здесь, я еще не ушел, ты еще не успел. Да, и поманил рыжую пальцем.
Я спал эту ночь с ней, а потом она растирала мне пальцами шею, уши, виски, не давая уснуть и упустить момент, когда все затихнет, перевернется, день сменится ночью и младенец, перебравшись через загородку, легко ступит на пол, побредет, ища то, что ему надо, боясь, не боясь, зная, смея, желая, играя свою роль. Твоя цель? Что ему надо? Пальцы терли виски. Рыжая пахла собой, я не видел ее. Только ждал. Что ж, осталось недолго. Мандала.
Конечно, этот первый и несовершенный опус любопытен прежде всего как этнографический этюд «эпохи военного коммунизма», можно сказать, зарисовка с натуры, так, впрочем, и системой психоаналитических симптомов, проступающих сквозь его незамысловатую подоплеку. Хотя не менее интересно его ретроспективное сравнение с куда более поздним высказыванием поэта, дословно воспроизводимым Афиногеновым: «Настоящему писателю нечего сказать. У него есть манера речи» (это, несомненно, рифмуется с известным утверждением Пушкина: «То, о чем говорит художник, никогда не является главным»[2]). Но не менее любопытны черты влияния стиля Щедрина, которые мы можем без труда отыскать в этой трехстраничной картинке с выставки, — Щедрина, любимого, по признанию многих, писателя нашего героя. Крэнстон уверяет, что они были не только знакомы, но и приходились друг другу дальними родственниками по линии Салтыковых, потомков выехавшего в начале XIII века из Пруссии в Новгород Михаила Прушанина или Прушанича. Славная семья. Ни в одной фамилии не было столько бояр, а потом генерал-фельдмаршалов. Один из Салтыковых, Михаил Глебович, бывший во время междуцарствия главным деятелем польской партии, в 1611-м отъехал с сыновьями в Литву, потомки его, откинув великорусское окончание своей фамилии, стали называться Солтыками, и многие из них, заняв достойное место в ряду польских магнатов, прославились в XVIII веке как ярые ненавистники России.
Мать Михаила Евграфовича, известная Салтычиха (и впоследствии жена Аракчеева), отличалась неукротимым темпераментом светской львицы и характером отчаянной пифии-прорицательницы. Ее несчастья начались со смертью второго мужа, престарелого секунд-майора, безвыездно проживавшего в своем имении под Яузой, и с лицемерного сватовства молодого капитан-исправника, который сначала побаловался с юной вдовой, а затем обманул ее, обвенчавшись с дочкой уездного предводителя. Мы бы назвали ее состояние сексуальной неуравновешенностью. Сперва сорвалось тщательно, хотя и истерично подготовленное ею покушение — она собрала специальную шайку из своих крепостных, которые должны были столкнуть в воду с моста коляску, в коей молодые — жестокий изменщик со своей красивой кралей — следовали в поместье батюшки новобрачной (усатый исправник навел ужас, непредвиденно выйдя из коляски за две сажени до моста, якобы собираясь проверить настил, — и шайка крепостных в панике разбежалась). Тогда молодая вдова — ей было в то время двадцать с небольшим — и открывает счет своим кровавым преступлениям. Сухой перечень делает их тривиальными. Все сто двадцать семь пунктов обвинения, подписанного впоследствии ею — по неграмотности она поставила крест, — похожи, как близнецы. Она мучила и убивала только молодых девиц и баб, начиная с тех, кто уже испытал радость первой менструации, и кончая успевшими родить не более одного ребенка, то есть возраст ее жертв колебался от 11 до 22 лет. Предпочтение она отдавала женам и невестам своих подручных, составлявших, в свою очередь, ее обширный и разношерстный гарем. Ее возбуждал коктейль спермы с кровью. Описания ее садистских соитий, как, впрочем, и способы пыток, нудны и однообразны, особенно при бросающемся в глаза желании поразить изощренностью и оригинальностью. Каждый раз очередной несчастной жертве ставилось в упрек одно из двух: плохое мытье полов или небрежная стирка белья. Других претензий не предъявлялось. Просчет в составе мыльного раствора приводил к появлению раскаленных каминных щипцов, разных иезуитских приспособлений и банальных скалок. Иногда мало что уже понимающей жертве давали возможность исправиться. Если была зима, то раздетую донага несчастную загоняли в ледяную воду по шею, а после того, как та начинала захлебываться, давали шанс вымыть полы еще раз, исправив этим предыдущую оплошность. Таким образом трое из ее подручных потеряли двух жен, один — четырех. Жалобщики выслеживались и наказывались. Коррумпированная судебная власть пила с нашей вдовой чай на веранде. Конец ее карьере положили случайное стечение обстоятельств и начатые Екатериной-освободительницей реверансы прогрессивной партии. Адвокат вдовы пытался придать процессу скандально политический характер, делая акцент не на ее маниакальном темпераменте, а выделяя идейную убежденность. Защита сводила все к тому, что вдова была шокирована обманувшим ее капитан-исправником, с которым она не разделяла его коммунистических настроений. Капитан был выдвиженцем, она — ретроградкой, инцидент свели к противоборству идей. Именно это обстоятельство спасло ее от четвертования; почти двадцать лет следствия закончились пожизненным одиночным заключением. Сначала монастырская яма, затем тюремный каземат, где вдова сидела, прикованная цепью за шею и левую ногу, а после того, как она умудрилась зачать и родить от караульного татарина, — каменный мешок, позволивший ей, однако, пережить императрицу, справив здесь свое девяностолетие.