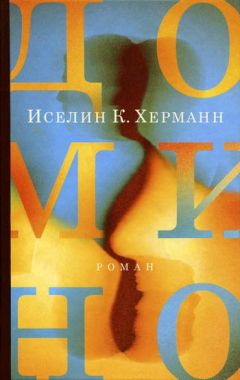Возможно, следует также признаться, что я была несколько резка с Вами, поскольку предпочитаю свой объемный образ, каковой предстает из писем, двухмерному — на фотографии в паспорте. Возможно, меня смутило то, что Вы женаты… возможно, я рассердилась… даже разозлилась… возможно, я кажусь смешной… возможно, надо разорвать это письмо в клочки… возможно, надо написать другое… Веселое — или равнодушное. Возможно, мне надо написать открытку, давая понять, что я занята и меня не волнует наша переписка? Но это было бы неправдой.
Правда заключается в том, что я по многу раз на дню выхожу в прихожую посмотреть, не завалилось ли за плинтус письмо от человека, которого я постепенно узнаю. Это самое правдивое, что я могу написать о себе, и эта правда истиннее многих других правд.
Ты видишь, Жан-Люк? Иногда я тоже обращаюсь к тебе на «ты» — когда не забываю и когда мне это удается. Мой французский старомоден, он идет из тех времен, когда преобладало обращение на «вы»; и с орфографией наверняка творится кошмар, поскольку меня учили не писать, а говорить. Французскому я научилась от бабушки по отцовской линии.
Представь себе, Жан-Люк: бабушке выпала горькая доля получить в мужья датчанина. Такому замужеству не позавидуешь по трем причинам. С ноября по март Дания — самое отвратительное место на свете, сырое, темное, мрачное. Это наиболее веская причина, из которой вытекают две других: погода наложила свой отпечаток на язык, сделав его гортанным и неблагозвучным; она воздействует и на датский образ мыслей.
Самым страшным для бабушки, когда она вышла замуж за дедушку, было то, что при каждом знакомстве приходилось сталкиваться с насмешками. У деда, как и у меня, была фамилия Хау, что значит «море», а бабушку зовут Океанией. И стоило ей протянуть руку и представиться: «Океания Хау», — как люди просто не могли удержаться от смеха. Кому же такое будет приятно?
Словно назло погоде, климату, фамилии и языку, бабушка до сих пор цепляется за родную речь. Датский она знает очень плохо. Возможно, это у нее реакция на подступающую со всех сторон воду и вообще на чужую обстановку, в которой родной язык служит ей надежным якорем. Когда мой отец был маленьким, в доме говорили исключительно по-французски. Да и я наслушалась вдоволь французских историй, прежде чем начала соображать, что рассказывают их на иностранном языке. Историй про каморку консьержки в Пятом округе, где было слишком много детей, слишком тесно, слишком мало денег и слишком много абсента, — в общем, всего, что полагается в подобных случаях. Историй про воскресные вылазки к Сене, которые казались грандиозным развлечением и дальним походом, хотя идти туда было всего-то два квартала. (Бабушка не видала иного водного простора, кроме Сены, пока не перебралась в Данию, где ее со всех сторон окружило море.) Историй не только про нищету, но и про мать, гордящуюся своими чудесными детьми. Разумеется, бабушка была самой красивой девочкой на своей улице, от нее все сходили с ума. Несколько лет учебы в школе, и вот она уже трудится в кондитерской напротив, а потом — за стойкой углового бара. Там ее и приметил молодой датский инженер. Там, на углу рю Сен-Жак и Данте, и возникло между двумя мировыми войнами мое двуязычие.
Инженер и барменша как были, так и остались на «вы». Тем не менее у них народилось трое детей, которые тоже говорят матери «вы». Так что второе лицо единственного числа отнюдь не естественно для меня и я с трудом осваиваю эту грамматическую форму.
Считается, что мой французский — язык, на котором говорили в начале века. Его словно залили в формочку для желе и поставили застывать на холод. Считается также, что, если лингвисты хотят исследовать разговорный язык, каким он был до эпохи магнитофонов и проигрывателей, им следует поискать носителей языка среди эмигрантов в дальних краях.
И все же в письмах к тебе я с удовольствием буду «тыкать» и ставить глаголы во втором лице единственного числа. Мне даже хочется превзойти самое себя, посему прибавляю:
«Должна признаться, что очень жду твоих писем».
Теперь я поставлю точку, надену плащ, суну письмо в карман и поскорей схожу на почту — пока она не закрылась, а я не пожалела об этом длинном послании. Отсылаю его срочной почтой с самым теплым приветом от меня.
Дельфина.
* * *
Вот небольшое пособие по употреблению местоимения «ты» в разных случаях:
Позволь мне представить себе, что ты, склонив голову, идешь к зеркалу.
Ты распускаешь волосы.
Ты не торопишься.
Я вижу перед собой твои ленивые движения, когда ты расстегиваешь верхнюю пуговку кофты… потом следующую…
Кофта соскальзывает с плеч, и ты медленно, словно в гипнотическом трансе, стягиваешь юбку — свою длинную черную юбку… Сначала опускаешь ее до колен, затем по очереди вынимаешь ноги.
Я вижу, как ты полураздетая стоишь перед зеркалом, предоставляя мне возможность разглядеть тебя.
Бросается в глаза белизна твоей кожи… но ты уже задергиваешь занавеси.
И даешь поцеловать тебя в шею подошедшему сзади
Жан-Люк.
* * *
24 мая.
Жан-Люк!
…я сама не своя, снова и снова перечитывая твое письмо.
Я тоскую по тебе, склоняя голову и местоимения (в датском языке глагол «склонять» употребляется и для грамматических категорий, и для частей тела).
Я сама не своя от тоски по незнакомому мужчине: я знаю его почерк, но не знаю прикосновения его руки; я знаю его речи, но не знаю его губ. Я сама не своя от тоски — и от зависти к листку бумаги, на котором пишу и который вскоре очутится у тебя в руках, перед твоим взором. В мыслях о тебе я перескакиваю со второго лица на третье и обратно.
Подумать только: этот листок очутится в его руках, перед твоим взором!
Я завидую воде, что омывает тебя по утрам: ее капли сливаются в струи, стекающие по твоему обнаженному телу. Завидую гребенке, которая расчесывает твои волосы, и чашке, которую он подносит к губам. Завидую ножу, который он держит в руке… руке, что режет хлеб. Хлеб, в который он вгрызается зубами.
Я бы с удовольствием стала рубашкой, соприкасающейся с твоей шеей, плечами, животом. Я бы с удовольствием стала туфлями, которые он четыре года назад купил в Швейцарии, которые любит надевать и регулярно чистит… не говоря уже о кистях, дожидающихся его в мастерской, или о натянутом на подрамник холсте!
Я бы с удовольствием стала креслом в мастерской, из которого ты рассматриваешь создаваемое полотно.
Я преисполнена зависти к бутылке вина, из которой он наливает себе, готовя курицу… вот бы оказаться на месте этой курицы, которую умащивают оливковым маслом и чесноком с солью, чтобы затем поджарить и съесть…
Вот бы оказаться на месте парикмахера, который время от времени стрижет тебя, или кассирши в продуктовом магазинчике «Феликс Потен», который наверняка есть поблизости от твоего дома. Она даже не подозревает, какое ей выпало счастье — каждый день здороваться с тобой, а на прощание спрашивать, все ли ты купил, не забыл ли чего!
Вот бы оказаться деньгами, которым было уютно лежать у него в кармане и которыми он теперь расплачивается.
Какой из простыней я предпочла бы стать: той, на которой он спит, или той, которой укрывается перед сном? Наверное, скорее той, которой укрывается, которая обволакивает его тело, которую он пропускает себе под мышками и между ног. Простыней, запах которой он с наслаждением вдыхает, когда она чистая, и которая за ночь начинает пахнуть уже им самим. Мне даже жутко думать обо всем этом…
Зато: будь я твоим ножом, чашкой или курицей, будь я кассиршей из магазина, рубашкой или туфлями, я бы не исходила от тоски, как исхожу теперь, я бы не капала духами на запястье и не гладила себя этой рукой по всему телу — осторожно в наиболее укромных его уголках. Я бы не стала аккуратно складывать письмо и не вложила бы его в конверт, как собираюсь сделать вскорости. И я бы не парила, сама не своя, невесомая, как невесом запах… как невесома теперь я. Я стала невесомой от тоски. Настолько невесомой, что могу послать в конверте и самое себя… Тогда бы я не была той, что недавно получила твое письмо и по-прежнему, даже в невесомом состоянии, зовется
Дельфина.
* * *
24 мая, 22 часа 30 минут.
До меня, Жан-Люк, вдруг дошла безмерная необдуманность моих поступков.
Как я могла отослать сегодняшнее письмо («невесомое», хотя оно куда весомее своей тяжести) на твой домашний адрес? Кто же так делает? Теперь я понимаю, насколько это было глупо и опрометчиво с моей стороны, и представляю себе, что его читает не тот, кому оно было предназначено…
Но и это письмо… куда мне послать его, если не тебе домой?..
Спасите-помогите!
Д.
* * *
Дорогая Дельфина!