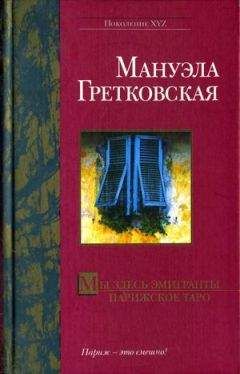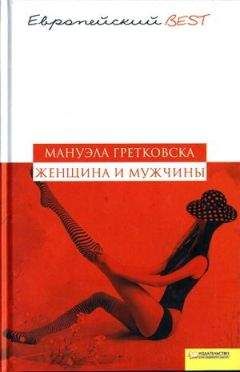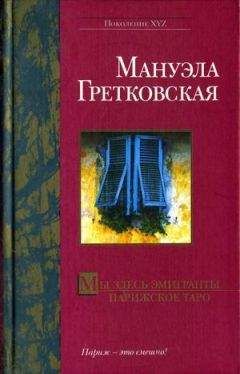Весна 1989
Самое интересное на французском телевидении – реклама, а особенно – попытки угадать, что рекламируют на сей раз. Если обнаженная девушка, блаженно растянувшись на персидском ковре, поливает себя духами, это не значит, что она впала в экстаз, нанюхавшись «Шанели № 5» или обтираясь о роскошный ковер. Эйфорию девицы вызвала прижатая к лицу мягкая, ароматная, прямо-таки нежная туалетная бумага. Если же показывают фрагмент из оперы Верди, то рекламировать скорее всего будут бифштекс с кровью. Почему? Не знаю, но это броско, ярко и неожиданно. Иногда даже с апокалиптическим юмором – избушку беглецов где-то в сибирской тайге окружают красноармейцы. Высаживают двери, окна, врываются даже через дымоход. Соль сцены – фраза: «Российский газ везде прорвется!» Мой знакомый, который уже давно живет во Франции, посмотрев эту рекламу, предположил, что скоро мы увидим, как Шагал расхваливает экскурсии в Чернобыль или на Беломорканал.
– Что ты говоришь! – удивилась я. – Ведь Шагал же умер…
– Ну и что, тем лучше, ему больше заплатят! И вообще выключи ты этот телевизор, он меня нервирует, и вообще вся Франция меня нервирует. Когда бы вся эта Франция была в Польше, вот тогда бы ее народ оценил. А так французы едят, пьют и думают только о еде и питье. Никаких проблем. Все как в этой рекламе – легко и бессмысленно. У одного священника даже возникла мысль: чтобы упростить французам жизнь, исповедоваться через «Минитель».[13] А еще кто-то надумал провести среди католиков референдум о возможности применения контрацептивов. Папа, естественно, на такой референдум не согласился, а эти подняли крик, что в Церкви нет демократии и что Церковь – тоталитарная. Но речь идет не только о религии, а обо всем. Я тебе скажу одну вещь, которую мало кто знает, хоть это и важная истина, самая важная, без которой не поймешь, что тут происходит. Видишь ли, если сравнивать Францию с Польшей, то Франция – страна с более низкой культурой, только на более высоком уровне развития. Поэтому поляки относятся к французам как к детям и в то же время восхищаются Францией. Понимаешь?
– Ага. Может, еще вина выпьешь? – Я пододвинула ему бокал.
– А какого?
– Какого хочешь, можно греческого, можно итальянского.
– Налей греческого, еще кое-что расскажу. Был я два года назад в отпуске, недалеко от Афин. Как-то вечером возвращаемся мы с друганом в кемпинг. Идем вдоль шоссе. Из-за поворота выезжает раздолбанный мотоцикл и едет прямо к нам. Слезают с него два небритых татуированных типа в обносках. На моряков похожи. Нам интересно стало, на каком языке они заговорят, а они на чистом русском спрашивают, не поляки ли мы. Мы киваем, что, мол, да. Ну а они тогда спрашивают, нет ли у нас водки на продажу. Увы, не было уже. Они усомнились: «Вы паляки?» – «Ну, паляки, паляки, но водку всю выпили. Что вы тут делаете, не заблудились, случаем?» – «Как што, как? Мы здесь эмигранты», – с видом оскорбленного достоинства ответил матрос. Сели они на свой раздолбанный мотоцикл и уехали.
– Ты ведь не думаешь, что этим русским, которых ты встретил в Греции, так уж плохо? – спросила я. – Туда ездит много поляков, и эти ребятки всегда могут купить у них водку, когда ностальгия одолеет. У моего знакомого, мсье Вонга, совсем другие заботы. Ему пришлось бежать из Камбоджи, поскольку он был полицейским еще при принце Сиануке и – хоть и говорит, что буддист, – делал коммунистам «тяп». Этот «тяп» мсье Вонг изображает, многозначительно проводя рукой по горлу.
Он вместе с сыночком пробирался сквозь джунгли в Таиланд. Из его группы спаслось только несколько беглецов – остальные нарвались на вьетнамские патрули или на мины. Однако, несмотря на нелегкую жизнь, мсье Вонг всегда улыбается, хотя как-то раз признался мне, что кое-что его печалит. Беда, сказать по правде, не столь уж велика, чтобы он перестал улыбаться, но проблема все-таки есть. Итак, мсье Вонг любит собак, а собаки во Франции очень дорогие. Я ему сказала, что могу попросить кого-нибудь, кто приедет из Польши, привезти песика: немецкую овчарку, пуделя или пекинеса. В Польше собаки дешевые, а дворнягу даже можно раздобыть бесплатно. Мсье Вонг был тронут моей отзывчивостью и спросил, большая ли собака дворняга, а то с маленькими всегда много хлопот. Я с ним согласилась, что у маленьких собак обычно бывает длинная шерсть и им приходится уделять больше времени. «Конечно-конечно, – поддакнул мсье Вонг, – такую шерсть выщипывать трудно». – «Зачем же выщипывать? Не проще ли постричь?» – «Ну да, сперва постричь, потом общипать, а под конец опалить». И тут мы внезапно все поняли. Мсье Вонг понял, что я никогда не готовила собак, а я поняла, почему мсье Вонг мечтает о собаке. Рецепт приготовления собаки оказался прост. Взять пса – лучше всего двух-трехгодовалого – и окунуть ему голову в ведро с водой. После утопления отрезаем голову, лапы и хвост. Потом общипываем и обжигаем, как курицу, над огнем. Собачье жаркое просто великолепно. Кошки тоже хороши, но не так вкусны, как собаки, и не годятся для праздничного стола. Вот как сильно различаются у нас с мсье Вонгом кулинарные предпочтения, однако во всем остальном мы друг друга понимаем прекрасно.
Зато я не могу понять до конца ментальность моих соседей за стенкой. Они приехали во Францию из Перу больше трех лет назад. Французский знают слабо, зато учат русский, особенно она, и никогда не говорят по-французски Moscou, но «Масква» с испанским акцентом. Эта их «Масква» – это мечта, это чудо. Вес, что есть лучшего в мире, – в этой «Маскве». На вопрос, почему они живут в буржуазном Париже, а не в «Маскве», они что-то там бормочут и снова говорят о гении Троцкого или Ленина.
Он лежит целыми днями на кровати, глядя в потолок, и думает, наверное, о своих товарищах по Светлому Пути.
Мой второй сосед – Хассан Растман – афганский фундаменталист и перуанцев не замечает вообще. Говорит им только «bonjour»[14] и ни слова больше. Однако как-то раз совершил поступок невероятный: постучал к ним в дверь и произнес целую фразу, глядя то ли в пол, то ли в сторону:
– Прошу прощения, я пришел не к вам, я пришел за моей знакомой.
Я в тот момент сидела у Светлого Пути, слушая лекцию о неизбежности народной революции. Я вышла с Растманом в коридор и спросила, что с ним случилось. Афганец помахал газетой:
– В «Одеоне» крутят тот фильм, о котором говорят все поляки. «Le Complot» – «Убить священника». Мы должны его посмотреть.
– Растман, я уже смотрела этот фильм дважды, иди один.
– Что? Один? Забыла, кто комментировал тебе все программы из Афганистана, какой это город, какое подразделение моджахедов? А как же польско-афганская дружба? Плачу за твой билет, пошли.
В кинотеатре было человек десять. Мы сели в пустом ряду, чтобы разговаривать, никому не мешая. Растман спросил только, правда ли, что город, который показывают, – это Варшава? После сеанса мы возвращались домой пешком через Сен-Жермен. Растман, конечно, фильм похвалил, но признался, что одного он не понял. Почему, когда полиция подбросила оружие «Солидарности», из этого устроили целое дело? В Афганистане оружие приходится покупать у одурманенных наркотиками Советов или добывать в борьбе. Зачем же в Польше коммунисты дают оружие оппозиции бесплатно? Я объяснила ему, что в Польше совсем другая ситуация, чем в Афганистане, и так далее. Растман, видимо, слушал исключительно из вежливости, поскольку в конце концов предложил:
– Знаешь, давай я тебя научу стрелять. Купишь себе пистолет – может, когда-нибудь и пригодится.
– Ты умеешь стрелять? Ты же всегда говорил, что как студент-медик лечил в горах раненых.
– Не шути. – Растман немало оскорбился. – В Афганистане каждый мужчина умеет стрелять.
– Но я еще не скоро вернусь в Польшу. Может, купим этот пистолет потом?
– Нет-нет. Учиться стрелять – просто необходимо, когда имеешь дело с коммунистами. Коммунисты даже во Франции есть.
Мы отложили обучение стрельбе на потом, когда я куплю пистолет. Надеюсь, что Растман забыл о своей идее. У меня нет ни малейшего желания выкладывать несколько сотен франков за какую-то железяку, от которой ни мне, ни кому другому не будет в Польше никакого толку, не говоря уж о проблемах с провозом оружия через границу.
Входя в дом, я обнаружила на ступеньках рваную газету с такой вот заметкой: «…Сегодня солнце заходит в 17.58». Уже зашло.
Я, наверное, принадлежу к числу тех немногих, кто имел несчастье дважды поступить на «изящные искусства» – и оба раза отказаться от этих, судя по всему, приятных занятий. Первый раз я поступала в школу в Торуни. Экзамен, продолжавшийся неделю, был весьма мучительным: три дня серьезного академического рисунка, два дня живописи маслом и теоретический экзамен или письменная работа по истории искусства, а потом – вопросы типа: «Что было изображено в гроте Ласко?» или: «Назовите, пожалуйста, современных польских архитекторов». Плюс – нагнетание истерии в перерывах: «Я уже третий год поступаю и говорю вам: все, кто проходит, проходят по блату».