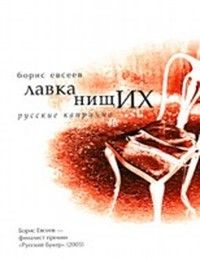Думая спервоначалу Ваню и Пашку лишь слегка попугать, бывший пристав вдруг все на ходу перерешил.
– А ну, останови! – крикнул он водителю.
Не говоря больше ни слова, пристав схватил Пашку за плечи и вытолкал из машины на дорогу.
– Поворачивай назад! – Трофимьев ткнул водителя кулаком в спину.
Ваня шевельнул связанными руками, а помочь Пашке ничем не смог.
Сдали километра полтора назад. Ваня снова возвращался на Птичку.
До Птички, однако, не доехали, остановились напротив леска.
– Выходи, – сказал Трофимьев торжественно. – Выходи, бандюган пригородный.
Ваня понял: будут бить. И сам первый, как только вышел из машины, ударил бывшего пристава ногой. Тот упал, поднялся, крикнул протяжно, как сыч:
– Ну, гад, я тебя урою!
13
Вечер лег гуще, плотней.
Выкинутая из машины Пашка резво бежала по улице Верхние Поля. Мысли ее тоже бежали вприпрыжку. Она вспоминала то свою медицинскую службу, то Ивана. Но больше всего ей вспоминался писк из коробок, копошившийся в ушах еще со времени первого посещения леска.
Лесок этот, не большой – не маленький, раскинулся сразу за Окружной дорогой. Несколько месяцев назад, в ноябре, Пашка в него и завернула. Просто так, сдуру. Издалека лес показался ей приветливым, безопасным. Но как зашла – так сразу и присела. Потому что наткнулась на коробку. А в коробке – котята. Мертвые, от приморозков давно окоченели. И ладно бы какие-нибудь посторонние котята! Так нет, те самые, дымно-рыженькие, которых при ней отдала перекупке несколько дней назад незнакомая бабулька. Перекупка клялась и божилась, что пристроит дымно-рыженьких к замечательным и богатым людям. Успокоенная бабулька, отдав котят, ушла.
«Вона куда их!»
От внезапной боли в кишечнике, Пашка не сразу смогла разогнуться. Наконец, распрямилась, огляделась.
Людей в том ноябрьском лесу и вправду не было. Все были заняты: на Птичке разгар торговли. Обмирая от страха и от любопытства, Пашка углубилась в лес. И чем дальше шла – тем становилось страшней. Под деревьями мертвые птицы, в коробках – штабелями – бездвижные черепахи.
Котят мерзлых – немеряно. А собаки... Те вообще на части порублены.
Пашка хотела повернуть назад, однако ноги сами несли ее дальше. Страшный лес еще не умер! Он хрипел, стонал, подмяукивал, пытался выжить.
Тогда, в ноябре, Пашка, споткнувшись о что-то мягкое, упала.
Упала она и сейчас, догоняя Ваню и тех троих, что, судя по брошенной машине, как раз в этот лесок и завернули. Дыхание у Пашки сбилось, пришлось остановиться: отдышаться, очистить веточкой ботинки от грязи, высморкаться.
14
Ваня шел по лесу с тремя утомительными придурками, но думал не про них, про птиц: «Вот летают себе, и горя нашего им нет. Бьют их из ружей влет и в силки заманивают. Но под ярмом нашим они не ходят!»
Иногда перескакивал мыслью и на людей. «Ну излупят, – думал, – ну обомнут бока. Впервой ли? А птиц таки повыпускал!»
Потом начинал думать и вовсе про постороннее, начинал – как это часто с ним в последние месяцы бывало – вести внутри себя разговоры с высокими лицами.
«Эх, Ладим Ладимирович, – говорил про себя Ваня, – Ладим Ладимирович! И Вы, Митрий Анатольич, тож! Как же это так случилось? Я чего-то никак не пойму. Все вроде у нас путем, а человеку хорошему – ни жизни, ни воли. Козлам да баранам – тем раздолье. А кто честный – тому осиновый кол меж лопаток! И деньгой-то ему в харю тычут, и всем иным попрекают. Нет, не подняться честному! А подымется – так бумажками закидают. И стоит он, дрожа, в бумажках шелестящих, как в воде: по самое горло. Вот вы по ящику правильно все говорите. А выключил ящик – и все, и другая жизнь. Особенно в пригороде. Землю всю подчистую забрали, продают ее и перепродают, чего-то ненужное строют. А людям от тех построек – что за прок? Как были все соседи в Перловке нищие, так ими и остались. Мож оно и не так плохо нищим быть. Иногда даже радостно. С этим не спорю. Но навсегда нищим оставаться – как-то оно утомительно, а? Может, не надо так?
– Надо, Ваня. Ну просто необходимо. – Строго так и степенно отвечают внутри у него Ладим Ладимирович и Митрий Анатольич. – Ты погоди маленько! Вам же, дуракам перловским, от этой временной нищеты когда-нибудь лучшей станет. Неравенство – оно кого хошь выучит. А касательно пригородного населения – мы с кем надо строгий разговор иметь будем. В этом, Ваня, не сомневайся!
– Нет, я че-то. Ну словно бы – сомневаюсь! Если, конечно, сверху глядеть – вроде у нас порядок. А подойдешь поближе.
Все у нас хорошо – только жизнь плохая!
Но раз надо терпеть, раз указано пригородным без земли собственной оставаться, указано на город до скончания века батрачить – что ж: потерпим, сполним!»
После таких бесед с высокими лицами Ване всегда хотелось петь: от радости выполненного долга, от удовольствия круглых речей.
Он и сейчас пошевелил связанными руками (потому как петь и не размахивать руками не мог) и запел вполголоса:
Ехал на Птичку Иван Раскоряк,
Ехал, споткнулся, и в грязь мордой – бряк...
– А раз ехал, так и приехал! – крикнул по-звериному глухо бывший пристав. – Приехал, говорю, ты, Ваня!
15
Пашка все никак не могла двинуться с места.
Вроде только полтора-два кэмэ пробежала, а не было сил. Да и что-то держало, не давало идти. Отдышавшись и отплевавшись, она осмотрелась и увидела на дереве облезлого серого кота.
Тощий кот глядел на Пашку и топорщил шерсть. «Вона кто не пускал!»
– Котя, котя, пусти! Мне надо. Ваню бить будут...
Кот еще больше встопорщил шерсть, но потом, вроде соглашаясь, мяукнул, сдал назад – так Пашке во всяком разе показалось, – и она вступила в самую гущу кое-где еще снежно белевшего леса.
Пашка шла наобум, по косой, едва приметной дорожке. Шла не оглядываясь, иногда на ходу приседая от шорохов, от вымахивавших на ее пути длинными кривыми ветвями, страхов.
16
Серый облезлый кот, чуть обождав, соскочил с дерева, но тут же, словно что-то учуяв, застыл на месте. Потом, постояв и видно устав прятаться от собак и людей, пошел вслед за Пашкой. Шерсть его кое-где еще топорщилась, но хвост по земле больше не волочился: торчал трубой.
17
Бывший пристав уже хотел было Ваню в лесу – «на произвол судьбы» – покинуть. Но опять вспомнил про государство, про то, какой дерзкий ущерб причинил ему Ваня, и понял: никто этого обалдуя по настоящему не накажет! Раз уж Елима не стал – другие и подавно не захотят.
А тут еще Ваня сглупил: стал развязывать – и развязал таки – руки.
Бывший пристав Трофимьев увидел, крикнул: «Вишь, развязался!» – и тут же въехал Ване в ухо.
Били недолго, потому что охранник случайно задел уже лежащего на земле Ваню тяжелым ботинком по голове, и тот отключился. Для верности дали еще камнем по затылку.
В лесу становилось холодно, дальше бить потерявшего сознание было неинтересно. А наказать надо было по всей строгости, до конца.
Вдруг Трофимьев обрадовался:
– А ну волоки его. Тут рядом! Давай, шевелись!
На границе кошачье-собачьего кладбища и молодой, примыкавшей к старому лесу, рощицы – было вырыто несколько непонятных ям: то ли для зверья покрупней, то ли и вовсе для живших, кормившихся и умиравших близ Новой Птички бродячих людей. Вскоре такая яма невдалеке и обозначилась.
– Давай его сюда. А то Елиме достанется. А Ваня... Он же перловский, здесь его искать никто не станет.
Бывший пристав вытряхнул из Ваниных карманов несколько бумажек и какую-то зеленую корочку.
– Ф-ф-у, блин! Иван Ла-азаревич... – Прочитал он и скривился. Но Ванину корочку себе в карман все ж таки сунул.
Ваню подволокли к яме. Перевернули вверх лицом. Пристав закашлялся, кинул лежащему на грудь дверцу от птичьей клетки, выпавшую у того из-за пазухи. Спустили вниз, прикидали мерзлой землей, еще и навернули сверху всякой дряни: коробок со сгнившим кормом, кошачьих ленточек, досок от ящиков, собачьего смерзшегося дерьма...
18
Пашка заблудилась. Попала не туда, где обретались те трое и Ваня. За спиной кто-то мяукал. Пашка поворотила назад. Минут через десять, сквозь деревья, она увидела пристава, охранника и водителя. Они садились в розовую, спело-клубничную, на миг засветившую себя изнутри – как сердце – машину.
Вани с ними не было.
Пашка остановилась, прислушалась. Картонные коробки теперь помалкивали, не слышно было ни собачьего повизгиванья, ни птичьих криков.
«Где ж Ваня?» – Она снова развернулась спиной к дороге, лицом – ко все еще пугающему мертвым зверьем, лесу.
19
Земля забила ноздри. В рот лезли смятые ленты. Дыханье стало не то что спертым – стало кончаться совсем.
Ваня знал: он уходит в землю плотней и плотней, врастает в нее глубже и глубже. Ужас сменился радостью, радость – снова ужасом: что там в глубине? Что-о-о?
Вдруг пробежал сквозь него розовый Елима Петрович. Потрогал Ваню за нос, удалился. У Елимы во всю щеку – свежая золотуха; через рот, до затылка, сквозная рана: дымит, чернеет...