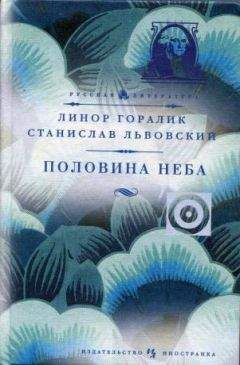— Так и что про профессорскую позицию?
— Ну ничего, я попыталась ткнуться туда, сюда — это я просто не представляла себе с каким… как это сказать… гадюшником имею дело. Не знаю, как объяснить. Эта академическая среда, она так устроена.
— А чего тут объяснять? Она устроена как советское учреждение.
— Вот! Вот! Да. Точно. И точно так же надо со всеми спать и лизать всем задницы, и корпоративная культура, fuck. Это ещё хорошо, что я не правом занимаюсь и не историей. Там ко всему прочему если ты не молишься по вечерам на портрет Хомского — всё, гуляй. И, в общем, я пошла в частную компанию. Там не совсем то, чем я занималась в Университете, — ну не занимаются частные компании астрофизикой, убиться, — но вполне как-то нормально. И это такое было облегчение поначалу — ты себе не представляешь. Мне бы этот нормированный рабочий день когда Лиза маленькой была. Но с другой стороны, это да, работа-дом, работа-дом, хорошо хоть, commuting удобный, если трафика нет — полчаса.
Мартин, между тем, ветеринар. Познакомились они, когда он усыплял её кошку, что-то у той было по женской части. И Маша никак не хотела её усыплять, плакала, потому что помнила, как это делают в Союзе, рассказал кто-то: их усыпляли не снотворным, а парализатором. То есть, у них останавливалось сердце, но они до последнего все понимали. И она это Мартину рассказала, но он ей объяснил, что нет, это будет снотворное, просто она заснёт, кошка, и будет спать. И вот, кошка заснула и проспала уже три дня из положенной ей вечности, а Маша с Мартином пошли на этот самый третий день во французский ресторан, где он рассказал своей будущей жене про суринамскую жабу пипу. Поскольку ели они лягушачьи лапки, Маша попросила его никогда, никогда больше не рассказывать ей, чем еда занимается в свободное от выполнения прямых обязанностей время. Так что про коров и кур Маша не знает ни-че-го. Я потыкал вилкой в стейк из лосося. Не представляю, чем они занимаются в свободное время, нерестятся, видимо — а чем я занимаюсь в свободное время? А у меня нет свободного времени. И это тот самый лосось, который в нашем детстве назывался просто «красной рыбой», а видовой принадлежности не имел. Такая рыба с крючковатым носом, как на карикатурах в «Фелькишер беобахтер». Или с носом — это горбуша? Вот я до сих пор в них не разбираюсь. Есть ещё нерка и ещё кто-то такого же цвета, у которого бывают спинки и брюшки — в маринаде, со специями, в винном соусе, со специями, в собственном соку, по-гречески, по-французски, со специями, sushi quality, чёрта лысого, но никогда — в томате. Стейк был очень вкусный. И глаз у него не было.
— Мы взяли джип и поехали в пустыню…
Это мы уже в CofeInn, через дорогу, сидим за столиком. Маша почему-то в полном восторге от того, что и маффины и брауни написаны русскими буквами, говорит мне, что это место — совершенно как Starbucks, но страньше. У меня Айриш кофе и маффин. А у неё сбитень, про который она помнила из юморески какого-то эстрадника, но никогда, ясное дело, не пробовала. Вот, попробовала. Сладкое очень, но пить можно.
— Идея была в том, чтобы забраться туда как можно глубже. Потому что Триполи — ну, арабский город, смешной, полковник везде висит. Они его не сказать, что не любят, а как-то им неловко, что он такой клоун. И да, реально, я выкидывал на границе из багажа все американские товары, потому что их нельзя туда ввозить, про камеру врал, что она русская, а латинские буквы — это на экспорт. А за спиной у меня рыдал Поль из голландской редакции, который за этот их мерзкий Genever душу готов продать, — а алкоголь — это вообще чуть ли не смертная казнь и надо выливать прямо в песочек свои запасы. А Поль, надо сказать, так пьёт, как в России и в деревнях не пьют. И вот мы едем по пустыне. Выясняется, что власть отца ливийского народа заканчивается в двух часах езды от Триполи, а дальше там только туареги и бензозаправки. Нефть течёт, в общем, почти сама, чуть не ручейками. На пятый день я начинаю чувствовать себя как в «Sheltering skies», потому что, да, кроме неба и песка нет ничего. А на шестой день мы ломаемся. Но туареги оказываются не так себе просто, а с запчастями туареги. Мы им предлагаем деньги, а они нам всё время показывают что-то руками, длинное и круглое, кажется. Поль быстрее меня соображает, у него уже руки перестали трястись, как-то он слегка приободрился на пятый день. И вот он говорит, слушай, они хотят выпивку в обмен на железки. Я ему говорю: ты совсем умом тронулся — какой им выпивки? Они не знают, что это такое. Поль говорит, нет, подожди, всё они знают. И начинает им голландскими своими жестами объяснять, что нет, что мы и сами умираем и трубы горят и душа и вообще. А я говорю ему, да, они твою голландскую жестикуляцию последний раз видели двести лет назад, когда проклятый колонизатор — один! — приезжал посмотреть, чем тут можно поживиться, но быстро понял, что нечем, и свалил. Ты им еще вот так покажи — и щёлкаю пальцем себя по горлу, как у нас делают. И тут они захлопотали, оживились и выносят нам два бурдюка какого-то говна. Несут мне, понятно, — я нюхаю — т-твою мать. Я не знаю, из чего они это гонят, но у меня такое ощущение, что из верблюжьей шерсти, ну нет других предположений, алкоголь не может так пахнуть. В общем, за эти помои мы заплатили раз в пять больше, чем за запчасти. И мало того, всю дорогу Поль болтался с этими бурдюками на заднем сиденье и орал голландские народные песни! Ну ладно, не народные. В основном он пел рекламный джингл прокладок Always. Но на голландском.
— Oh, gosh!
О, господи. Вот, вот же оно — это разделяло нас больше, чем любые временные промежутки, чем восемь часовых поясов, чем разница в доходах. Oh, gosh. И ещё, может быть, то, что она нигде не бывает кроме своего Бостона, а я бываю везде, кроме Бостона, потому что да, я очень хороший фотограф и National Geografic нанимает меня фотографировать много где. Но там, в Бостоне, слава богу, хватает своих. И вообще не очень понятно, что в Бостоне фотографировать. Китов в океане? Аспирантов MIT на водопое? Откуда мне знать.
Наверное, это был первый раз, когда при мне плакал взрослый человек. Это вообще был такой день, когда при мне плакали взрослые, но началось с Нины Николаевны. «Блошиный домик», вот как это называлось, таких женщин больше, кажется, нет в природе, но иногда я все-таки вижу даму за шестьдесят с вытравленными перекисью, уложенными в сложную конструкцию волосами на макушке, я вспоминаю, что это называлось «блошиный домик», так вот, она уронила свой «блошиный домик» на стол и зарыдала в голос, и мы оцепенели. Вид плачущей учительницы для нас, — а нам было по десять лет, — означал, как любила говорить Элла, эйлатская моя двухнедельная любовь, — что «уламейну хашах алейну» — мир накрыл нас черной пеленой. Это длилось, по крайней мере, минуту — она рыдала, мы сидели. Потом ей все-таки удалось справиться с собой, и она впервые за два года произнесла при нас фразу с нормальной человеческой интонацией. Она сказала: «Дети, Леонид Ильич умер».
Мои родители, надо думать, помнили еще март 1953 года, рыдающих людей, медленно плывущую скорбную сажу малоразличимых пальто, огромные усатые портреты, крики задавленных толпой и страх, страх перед тем, что будет завтра — на кого он нас покинул? Как мы теперь? Но прошло — сколько? — почти тридцать лет, и мы, конечно, ничего подобного не видали. Поэтому перед мамой вечером встала серьезнейшая проблема: во что завтра одеть ребенка в школу? Почему-то нам не ничего не сказали про траурную форму — мама помнила черные не то повязки, не то ленточки на лацкане, но отец издевательским тоном сказал: может, черные рубашки? — и она занервничала еще сильнее, черной рубашки, разумеется, в доме не было. Она позвонила Светкиной маме, напористой, голосистой председательнице родительского комитета, и та не ударила в грязь лицом, сказала подшить черной тесьмой воротник белой рубашки. На следующее утро нас таких трое, с черной тесьмой, оказалось трое — двое, чьи родители позвонили Светкиной маме, плюс сама Светка. Остальные, кажется, пришли как всегда.
Можно было, конечно, посоветоваться с бабушкой, но бабушка с дедом заперлись у себя в комнате и не выходили с обеда. Бабушка была вторым взрослым человеком, который в тот день плакал у меня на глазах. Почему-то мне казалось, что я ошарашу их новостью о всесоюзной смерти, — но бабушка встретила меня на пороге с покрасневшими глазами, и я был несколько разочарован, — я тогда не знал, что первым убивают гонца, — и тут она сказала: «Деточка, Леня умер», я только понял, что у нее какое-то свое горе, и спросил: «Кто это?» Она не ответила, а я не решился переспросить, пошел за ней на кухню, съел разогретый обед, и только через час, за уроками, услышал через стенку ее всхлипывания и изъеденный трахомой голос деда, — и понял, что Леня — это наш дорогой Леонид Ильич.
Дед и бабка на протяжении почти двух десятков лет медленно ползли за Брежневым по длинной карьерной колее — из Днепропетровска в Молдавию, из Молдавии, минуя несколько коротких этапов, — в Москву. Мама родилась в теплом и липком Кишиневе и до конца своих дней жаловалась на московское центральное отопление. В свое время дед был ни много, ни мало — Ленькиным начальником, они и жили-то дверь в дверь, и Ленькины молодецкие запои обычно заканчивались слезами на общей лестничной площадке, пока бабушка и Виктория не подхватывали пьяного красавца под руки и не доводили до дивана. Связь двух семейств прервалась, когда Ленька сильно пошел вверх по партийной линии — дед был евреем, больше ему при старом друге места не находилось, и только тридцать с лишним лет спустя бабушка выговорила это «Леня»: смерть не только отнимает, но и возвращает.