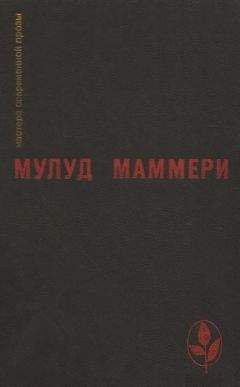«Цивилизациям известно, что они смертны. Это запоздалое открытие, сделанное разочарованным Западом в период своей зрелости, лежало у ацтеков в основе их концепции судьбы. История была для них последовательной чередой восходов и закатов, рождавшихся в муках солнц, которые, зная с самого момента своего рождения о том, что время, отпущенное им, ограниченно, заставляли людей жить на земле в каком-то яростном исступлении.
…Ацтеки — наше вчера… Их история — наша нынешняя история… Они лишь самый неоспоримый пример трагедии, которая ныне объемлет всю планету. Мы все теперь знаем, что смертны. И что нужно суметь удержать в руках нашу землю, дабы не дать ей разлететься на куски от атомного взрыва, который есть не что иное, как образ взрыва нашего сознания… И если завтра чей-то палец по рассеянности ли, по неведению нажмет на кнопку, всем нам понадобится куда меньше, чем ацтекам, времени, чтобы исчезнуть с лица земли…
Скажут, что игра эта ведется издревле: с тех пор как на земле существуют люди, они только тем и заняты, что убивают друг друга. Это безумие… Не станем воскрешать старые утраченные горизонты. Увидим новые. Проблема, вставшая в наше время перед людьми, проблема, которую нельзя не решать, — созидание их единства. Всеобщего. Всечеловеческого. Это Главное… Люди не хотят больше терпеть абсурда…»
Что там, в лучах утренней зари? Тревога? Надежда?
Виктор ЦоппиВесна в наших краях длится недолго. Едва минует холодная зимняя пора, стихнут неистовые ветры, перестанет валить снег, от которого прячутся по углам люди и звери, как наступает теплая весна; и лишь только успеет она окрасить поля в зеленый цвет, как от жгучего солнца уже начинают вянуть цветы, а чуть позже — желтеть нивы. Недолго длится и девичья весна. Когда я уезжал, Аази была еще девчонкой, по прозвищу Невеста Вечера, а когда вернулся, ее уже звали Тамазузт и была она девушкой на выданье.
Моя предстоящая женитьба на Аази, казалось, ничуть не волновала моего двоюродного брата Менаша. Еще недавно он считал бы меня счастливейшим из смертных, но теперь он здорово изменился, не меньше, чем я.
Менаш — кто бы мог подумать? — утратил свою жизнерадостность.
Одевался он все так же изящно, по-прежнему два раза в день менял цветной бурнус, но смеяться он разучился…
Прежде мы каждый вечер ходили к Давде, жене Акли, выпивали не один кувшин молочной сыворотки, а теперь Менаш избегал нашего общества — он брал свою тонкую ивовую трость и отправлялся один на далекую прогулку. Ссылаясь на то, что они с Давдой недолюбливают друг друга, Менаш сторонился нас всех, а если нам все же удавалось залучить его, вел себя очень странно: резко и без причины переходил от глубокого уныния к неестественной шумной веселости.
Как-то ночью, когда духота не давала мне уснуть, я вышел на площадь нашего селения — площадь Паломников, как ее у нас называют, — чтобы подышать свежим воздухом. Луна висела низко над горами — вот-вот спрячется, — но небо было усеяно множеством ярких звезд. В комнате Давды еще горел свет, и сама она несколько раз мелькнула за окном. Я толкнул тяжелую ясеневую дверь, выходившую на площадь. Там кто-то стоял. Увидев меня, человек поспешно прикрыл лицо бурнусом. По сиреневому цвету я узнал, что это Менаш.
На приветствие мое он не ответил.
— Не спишь? И мне не спится… Жара невыносимая… Почему ты не отвечаешь? Не хочешь разговаривать?
— Оставь меня в покое, вот и все.
Голос у него был хриплый, злой; он немного приподнял капюшон. Сиреневая шелковая пола бурнуса упала ему на колени. Лицо его, освещенное лунным светом, поразило меня горестным выражением.
Оно было искажено, словно от острой боли. Губы сжаты, встревоженные глаза непомерно расширились, ноздри дрожали.
— Ступай своей дорогой, — сказал он. — Что тебе тут надо? Со мной ничего, ровно ничего. — У него был очередной приступ черной тоски, но я понял, что она, исказив его черты, ищет выхода. — Я, верно, смешон в твоих глазах? Ты, как и все другие, погряз в пошлом благополучии. Скоро женишься. Станешь счастлив, будешь обожать жену, она — тебя, и у вас народится куча детей.
Я был уверен, что ничем не заслужил такой насмешки. Разве я виноват, что женюсь на Аази, простите — что меня на ней женят? Но в ту минуту, признаюсь, мне было жаль Менаша — какой тряпкой он стал!
Легкий ветерок донес до нас чуть слышные сухие и редкие удары барабана и обрывки плясовой мелодии, которую пело несколько голосов. То был хор ватаги Уали — сехджа[5], как они говорят.
— Вот счастливцы, — сказал Менаш. — Этим-то на все наплевать.
— Что с тобой?
— Со мной? Ничего… А знаешь, у кого я был? У Давды.
— В самом деле?
— Ты, вероятно, заметил у нее в окне свет?
— Заметил.
— Я сидел у нее с самого захода солнца — целый час, а может, и больше… или меньше, сам не знаю.
— Да ведь уж больше двух часов, как зашло солнце.
— Значит, я пробыл у нее больше двух часов.
— А где Акли?
— Пошел на помолвку Секуры и Ибрагима. Я знал, что Акли вернется домой поздно, но думал, что застану там вас всех. В такой день все вы должны были там быть, а никого не было.
— Мы не знали. Что же ты нам не сказал?
— Эх-ха! Ихиа! — гремела вдали сехджа. Теперь можно было смутно различать напевы, которые доносил до нас ветерок.
Менаш, по-видимому, не слышал меня. Он понесся напрямик, как раненый вепрь.
— Я не хотел к ней идти! Я не был у нее ни разу с тех пор, как возвратился из Феса.
Луна скрылась за минаретом. В темноте я не видел ничего, кроме лица Менаша, да и то плохо.
— Она сама меня позвала. Мне надо бы отказаться, но теперь уже поздно об этом говорить. Сначала она попросила продать кому-нибудь ее серебряную брошку, потом разговор перешел на другое. Я остался выпить кофе. Все порывался уйти, но все сидел.
Менаш сам не заметил, как уронил трость. Я нагнулся, чтобы поднять ее.
— Я понимаю, что ты думаешь. Ты думаешь, я негодяй; порядочные люди к молодой женщине не ходят, тем более, когда мужа нет дома. Но говорю тебе: она сама меня позвала.
— И удерживала тебя тоже она?
— Да. Первый раз, когда я собрался уйти, она предложила сварить кофе… А второй раз она… я…
— Так что же второй раз?
— Она стала мыть голову.
Я подскочил. Я вдруг представил себе, как Давда сушит волосы над огнем. Однажды она уже разыграла эту сцену передо мной, поэтому я сразу же раскусил ее затею, прежде чем Менаш объяснил мне, что именно произошло.
— А что в этом дурного? Женщина не должна показываться мужчине с непокрытой головой? Ну а передо мной появилась — и что же из этого? Я не какой-нибудь старый хрыч и считаю, что это дурацкий предрассудок. Да и она так считает.
— Тоже считает, что это дурацкий предрассудок? Поздравляю!
— Она позволяет себе это потому, что я не такой, как другие, так по крайней мере она сказала. Я прикоснулся к ее волосам, Мокран. Ах, какие у нее волосы!
— Что такое?
— У нее есть один седой волосок, и она хотела показать его мне. Ах, какие роскошные волосы!
Прикосновение к волосам Давды произвело на него такое сильное впечатление, что он не находил слов и лишь повторял: «Какие волосы!»
Слабый ветерок принес запах духов. То были духи Акли. Раз муж Давды появился где-то поблизости, благоразумнее было отложить наш разговор, и на этот раз Менаш меня понял.
— Это не от него так пахнет, — сказал он. — Пахнет от меня. Когда волосы у нее высохли, она их надушила, а заодно надушила и мои.
Мне любопытно было знать, как далеко зашел Менаш в своей борьбе с предрассудками, если он даже позволил себя надушить.
Я уже хотел было задать ему этот вопрос, как в темноте послышались торопливые шаги и, еще прежде, чем мы увидели самого Акли, до нас донесся его громкий голос:
— О чем вы тут толкуете, молодые люди?
— О Самсоне и Далиле, — ответил Менаш вызывающе, словно искал ссоры. — Не так ли, Мокран?
— Почти что так, — подтвердил я, чтобы спасти положение и вместе с тем не слишком исказить истину.
Акли не имел о Самсоне и Далиле ни малейшего понятия, но, как истый поборник просвещения, не хотел подать виду, что он чего-то не знает. Он принял мой ответ за тонкую шутку и разразился громким хохотом.
— До чего же ты остроумен, — сказал мне Менаш, раздраженный смехом Акли.
Я поспешил перевести разговор на другое.
— Откуда ты так поздно, Акли? — спросил я.
— Как бы ни был умен человек, все же в его жизни бывают случаи, когда, невзирая на принципы, указующие ему путь, как маяк — кораблю, ему приходится подчиняться требованиям общества; в один день не побороть всех этих допотопных предрассудков, тем более если действуешь в одиночку.