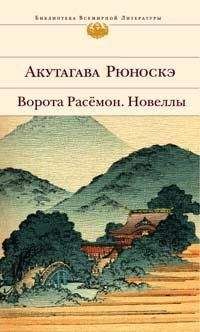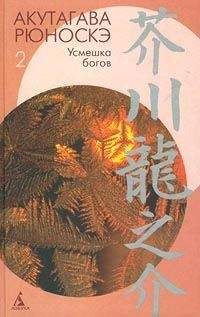Однако Дзиндайю не слушал.
— Разумеется, не об этой мелочи я думаю. Но ведь до конца века на мне останется позор: самурай Дзиндайю так разволновался перед местью, что, расплачиваясь на постоялом дворе, ошибся в счете. Ступай вперед! А я вернусь на постоялый двор. — С этими словами он повернул назад. Преклоняясь перед таким самообладанием, Кисабуро, как ему было сказано, в одиночку поспешил к месту отмщения.
Вскоре и Дзиндайю присоединился к Кисабуро, ожидавшему его у ворот храма. В тот день в небе плыли легкие облачка, сквозь них пробивались неяркие лучи солнца, время от времени накрапывал дождь. Оба они, каждый по свою сторону ворот, медленно шагали вдоль ограды, над которой уже желтела листва ююби, и ждали прихода Хёэя.
Но вот уже близился полдень, а Хёэй все не появлялся. Кисабуро не выдержал и спросил у привратника, придет ли сегодня Хёэй в храм. Однако привратник и сам недоумевал, почему он все не идет.
Так, сдерживая биение своих сердец, стояли они за оградой храма. А тем временем час за часом безжалостно проходил. Стали ложиться вечерние тени; в воздухе уныло раздавалось карканье ворон, клевавших плоды ююби. Потеряв терпение, Кисабуро подошел к Дзиндайю.
— Не сбегать ли мне к дому Онти? — прошептал он. Но Дзиндайю покачал головой и не позволил.
Скоро в небе над воротами храма между облаками там и сям заблистали редкие звезды. И все же Дзиндайю, прислонившись к ограде, упорно ждал Хёэя. В самом деле: Хёэй, возможно, узнал, что его подстерегают враги, и хочет прийти в храм незаметно, когда стемнеет.
Наконец прозвучал колокол первой ночной стражи. Затем прозвучал колокол второй стражи. Они, мокрые от росы, все не отходили от храма.
Хёэй так и не показался.
Дзиндайю и Кисабуро, перейдя на другой постоялый двор, снова принялись выслеживать Хёэя. Но прошло всего несколько дней, и вдруг у Дзиндайю открылись жестокие рвота и понос. Сильно встревоженный Кисабуро хотел сразу же побежать за врачом, но больной, опасаясь, как бы все не открылось, решительно не позволил ему этого.
Весь день Дзиндайю пролежал в постели, возлагая надежды на купленное в аптеке лекарство. Однако рвота и понос не прекращались. Кисабуро не мог оставаться равнодушным и наконец уговорил больного дать осмотреть себя врачу. Тут же немедленно он обратился к хозяину постоялого двора с просьбой позвать местного врача. Хозяин сейчас же послал за врачом по имени Маруки Рантай, промышлявшим в этих местах своим искусством.
Рантай учился у самого Мукаи Рэйрана в славился как замечательный врач. Но он обладал при этом нравом мужа-самурая, дни и ночи проводил за чаркой и не думал о деньгах:
Взлетает на небо,
Под облака, в долинах
Поток глубокий
Переплывает — вот цапля
Что делает обычно.
И действительно: обращались к нему за лечением все — от знатнейших вассалов клана до жалких нищих и париев.
Даже не пощупав пульса Дзиндайю, Рантай сразу же определил дизентерию. Однако и лекарства такого знаменитого врача не помогли. Кисабуро, ухаживая за больным, молился о выздоровлении Дзиндайю всем богам. И сам больной долгими ночами, вдыхая дымок от снадобья, варившегося у его изголовья, молился про себя о том, чтобы как-нибудь дожить до исполнения своего заветного желания.
А между тем наступила поздняя осень. Кисабуро по дороге к Рантаю за лекарством часто наблюдал, как в небе летят вереницы перелетных птиц. И вот однажды в прихожей Рантая он столкнулся с одним самурайским слугою, также пришедшим к Рантаю за лекарством. Из разговоров с ним Кисабуро стало ясно, что больной человек — из дома Онти Кодзаэмона. Когда слуга ушел, Кисабуро обратился к знакомому ученику и спросил:
— Видно, даже такой воин, как Онти-доно, и тот не справляется с болезнью?
— Нет, болен не Онти-доно, а гость, остановившийся у него, — ничего не подозревая, ответил добродушный ученик.
Теперь каждый раз, приходя за лекарством, Кисабуро старался что-нибудь разузнать о Хёэе. И тут, расспрашивая все подробнее, он выяснил, что Хёэй с того самого дня — с годовщины смерти Хэйтаро страдает той же болезнью, что и Дзиндайю. Понятно, что он в тот день не пришел в храм Сёкоин только из-за болезни. Когда Дзиндайю об этом услышал, его болезнь стала для него еще тягостней. Ведь если Хёэй умрет, то, как бы он ни хотел убить его в отмщение, это уже никак не удастся. С другой стороны, пусть Хёэй и останется в живых, но, если он, Дзиндайю, сам распростится с жизнью, тяготы всех этих лет пойдут прахом. Грызя изголовье, Дзиндайю молился о своем выздоровлении и вместе с тем не мог не молиться и о выздоровлении своего врага Сэнума Хёэя.
Однако судьба была жестока к Таока Дзиндайю до конца. Болезнь его все обострялась, и не прошло и десяти дней с тех пор, как он стал принимать лекарства Рантая, а его состояние стало таким, что не сегодня-завтра мог наступить конец. Но, даже тяжко страдая, он ни на мгновение не забывал о мести. Кисабуро слышал, как сквозь стоны больного прорываются слова: «Великий бодхисаттва Хатиман!» Однажды ночью, когда Кисабуро, как обычно, давал больному лекарство, Дзиндайю, пристально глядя на него, слабым голосом позвал:
— Кисабуро! — И, помолчав, произнес: — Жизнь моя кончена.
Кисабуро в отчаянии, упершись руками в циновку на полу, не в силах был даже поднять головы.
На следующий день Дзиндайю вдруг, под влиянием какой-то мысли, послал Кисабуро за Рантаем. Рантай, от которого и в этот день несло запахом сакэ, тотчас же пришел к больному.
— Примите мою признательность за столь долгую заботу обо мне, — с трудом проговорил Дзиндайю при виде врача, приподнявшись на своем ложе. — Но мне бы хотелось, пока я еще жив, попросить вас об одном деле. Вы выслушаете меня?
Рантай с готовностью кивнул головой. И Дзиндайю, поминутно прерываясь, рассказал ему все о мести, ради которой они высматривали Сэнума Хёэя. Голос его был едва слышен, но каждое слово в его длинном рассказе звучало как должно. Рантай, сдвинув брови, внимательно слушал. Закончив рассказ, Дзиндайю, задыхаясь, спросил:
— Последнее в этой жизни: я хотел бы знать, каково состояние Хёэя? Он еще жив?
Кисабуро уже плакал. И Рантай, слыша эти слова, не мог удержать слез. Придвинувшись к больному, он нагнулся к самому его уху и проговорил:
— Будьте покойны. Хёэй-доно скончался. Сегодня утром в час Тигра я сам присутствовал при его смерти.
На лице Дзиндайю показалась улыбка. И вместе с ней на исхудавшей щеке холодно блеснула слеза.
— Хёэй! Хёэй! Счастлив твой бог, — с горечью пробормотал Дзиндайю и, словно желая поблагодарить Рантая, склонил на постель свою голову со спутанными волосами.
И — его не стало.
В конце десятого месяца по лунному календарю десятого года Камбун слуга Кисабуро, простившись с Рантаем, направился в обратный путь, на родину в Кумамото. В дорожной корзинке за плечами у него были пряди волос трех человек — Сакона, Мотомэ и Дзиндайю.
В первом месяце одиннадцатого года Камбун на кладбище храма Сёкоин в Мацуя были поставлены четыре плиты в память умерших. Тот, кто их поставил, видимо, тщательно скрывался, и ни один человек не знал, кто он. Но когда эти плиты были установлены, ранним утром в ворота храма вошли двое, по облику монахи, с ветками цветущих слив в руках. Один из них бил известный в городке при замке Маруки Рантай. Другой изможденный болезнью человек очень жалкого вида, в осанке которого все же чувствовалось что-то самурайское. Пришедшие положили ветки сливы у плит. Затем окропили каждую из четырех плит жертвенной водой и ушли.
Прошли года. На праздник святого Эрина в храм Обаку явился странствующий монах, очень похожий на изможденного болезнью человека, тогда посетившего кладбище. Кроме того, что в монашестве его нарекли Дзюнкаку, о нем не было известно ничего.