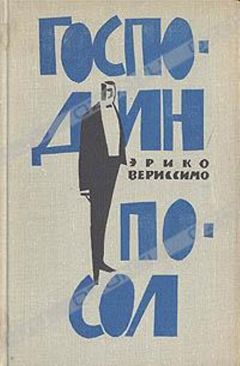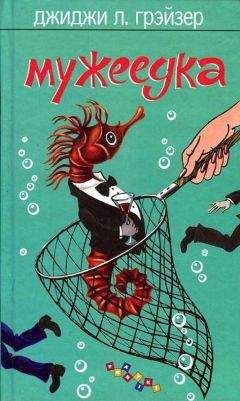Он взял трубку в рот, отчего его дикция стала совсем невнятной, и продолжал:
— Расщепив атом, ученые нашего века расщепили также семантику и даже этику. Кто сейчас определит значение слов, которые мы по легкомыслию употребляем слишком часто, таких, как «свобода», «мир», «правда» и «справедливость»? Еще хуже обстоит дело со словом «истина»… Сколько истин существует теперь в мире? Я знаю множество: истина Белого дома, Кремля, Ватикана, Уолл-стрита, Бродвея, «Юнайтед стил корпорейшн», Американской федерации труда. Не следует забывать также и об истине Мэдисон авеню, возможно, самой фантастической из всех.
Годкин закашлялся, вытер платком рот.
— Молодой оратор сказал, что я символ… Но символ чего? Наверное, журналистики, которая теперь близится к закату. Я принадлежу к эпохе, когда корреспонденты писали лишь о событиях. Вы же, нынешние, соревнуетесь с господом богом. Вы не только стараетесь опередить события, но и считаете себя вправе в случае надобности создавать их, чтобы потом писать свои корреспонденции.
На мгновение он замолчал и уставился на скатерть, словно там был написан текст его речи.
— Что же касается того, что я стал в некотором роде монументом, то, возможно, мой любезный коллега хотел сказать, будто я уже превратился в восковую фигуру, слепок с самого себя и мне пора покрываться пылью в музее журналистики.
Послышались возгласы: «Не говори ерунды!», «Что с тобой, старина?», «Не валяй дурака!» Уильям Б. Годкин поднял руку, прося тишины, и закончил:
— Как бы там ни было, не думайте, что я не смог оценить ваши добрые чувства… этот завтрак, теплые слова, прекрасные подарки… Впрочем, мне лучше кончить, а то я наговорю глупостей. Спасибо, ребята!
Годкин уселся под гром аплодисментов, однако недовольный собой. Ведь он поднялся, намереваясь произнести короткую и шутливую, подобающую случаю речь, а почему-то под конец заговорил серьезно и, что еще хуже, занялся смешным самобичеванием. Он раздраженно выколотил трубку, слишком сильно стукнув ею о пепельницу.
Возвратившись в бюро Амальпресс, он некоторое время сидел за своим столом, рассеянно перебирая лежавшие перед ним бумаги. Затем поднял голову и уставился на календарь, висевший на стене. 6 апреля. Понедельник. Он решил, что сейчас на свете есть лишь одно стоящее дело, которое он может сделать, и позвал секретаршу. Мисс Кэй вошла с блокнотом в руках и желтым карандашом за ухом. Это была невысокая женщина неопределенного возраста с обесцвеченными перекисью водорода волосами, острым профилем и стальными глазами.
— Есть что-нибудь важное?
— Нет, мистер Годкин.
— Отлично. Скажите ребятам, что я ушел и сегодня не вернусь.
— Прекрасно, мистер Годкин.
Замечательная мисс Кэй! Точна, как хронометр. Работает, как машина. В служебное время никогда не позволит себе замечания или жеста, не относящегося к делу.
— Только что я сделал одно открытие… — пробормотал Годкин, надевая пальто и беря шляпу.
— Да, мистер Годкин?
— Самое важное в Вашингтоне не Белый дом. И не госдепартамент. Не казначейство. Не ФБР. Не Смитсоновский институт.
Секретарша ждала, выпрямившись, с бесстрастной и строгой миной. У двери Билл закончил:
— Самое важное — это вишневые деревья Потомака в первые дни апреля! Если газеты не врут, они сегодня зацвели.
Выколачивая трубку, он тайком взглянул на секретаршу, ожидая улыбки или какой-нибудь иной реакции. Мисс Кэй, однако, оставалась серьезной и настороженной. Она отказывалась принять шутку и, как и подобает машине, хранила безразличие. Разве телетайп дрожит от радости или негодования, когда принимает либо передает сообщения?
— До завтра, мисс Кэй.
— До завтра, мистер Годкин.
На улице Билл Годкин вдохнул прохладный аромат весны, исходивший от влажной зелени. Он решил пройтись пешком до Тайдл Бейсин. Засунув руки в карманы пальто, он вышел на 16-ю улицу и двинулся в южном направлении. Годкин вспомнил о своем друге Пабло Ортеге, первом секретаре посольства республики Сакраменто. Однажды, когда было такое же чистое и сияющее небо, он, взглянув вверх, воскликнул: «Держу пари, сегодня бог велел Фра Анжелико покрасить небо. Ибо только он знает секрет такого чистого голубого цвета». Билл думал о том, что почему-то именно в такие прекрасные дни он особенно остро ощущает свое одиночество. У него не было детей, и два года назад жена скончалась от лейкемии… Это нежное создание, напоминавшее портрет, написанный пастелью, уходило из жизни, постепенно угасая, без единой жалобы, ни на мгновение не утратив жизнелюбия, веры в лучшее, жадного интереса к людям, животным и вещам. «Бог ведает, что творит, — любила повторять она. — Подлинно зрелый человек понимает символический язык создателя».
Продолжая думать о покойной жене, Билл Годкин подошел к Лафайет-скверу. В противоположном конце площади он увидел Белый дом. Билл считал его самым красивым зданием Вашингтона, где удачно сочетались благородство и изящество, простота и гармония. Наверное, в эту минуту в одной из комнат Белого дома президент Эйзенхауэр напряженно размышляет над текущими проблемами: судьбой кубинской революции и драмой Джона Фостера Даллеса, который лежит в больнице в ожидании мучительной смерти от рака желудка.
Билл собрался пересечь улицу, когда перед ним вдруг возникла Рут, и он даже услышал ее голос: «Дорогой мой, никогда не переходи улицу, не посмотрев прежде по сторонам, хорошо?» Он последовал этому совету, но лишь механически, ибо так и не понял, угрожает ему опасность или нет. Билл шел своим обычным неторопливым шагом, однако ему пришлось поторопиться, когда он заметил справа от себя и уже совсем близко мрачный черный «кадиллак». У-ух! Наконец-то он добрался до тротуара. (Машина, похожая на эту, отвезла тело Рут на кладбище…) Посреди площади стояла статуя Эндрью Джексона: он скакал на лошади, придерживая рукой треуголку… По утверждению знатоков, поза лошади, поднявшейся на дыбы, поставила перед скульптором трудную техническую задачу, которую он блестяще разрешил. (Орландо Гонзага, приятель Билла, бразилец, сказал ему как-то: «Вы, американцы, путаете искусство с ремеслом».)
Памятники американской столицы отнюдь не воодушевляли Годкина. В большинстве своем они были стандартными, им не хватало величия и красоты. Лучшие достопримечательности Вашингтона — это деревья и парки, думал Билл, шагая под сенью вязов, окаймлявших Джексон Плэйс. Эти высокие, стройные и благородные деревья напоминали Годкину Авраама Линкольна.
На мгновение Билл остановился посмотреть на стаю скворцов с темными блестящими перьями и желтыми клювами — птицы оживленно щебетали в ветвях магнолии. Рут обычно говорила, что деревья, цветы, птицы, дети, то есть все прекрасное, — это как бы слова надежды, с которыми бог время от времени обращается к людям, живущим в жестоком, мрачном и абсурдном мире. Мрачном и абсурдном… Годкин вспомнил, что несколько лет назад (пять? шесть? может быть, семь?..) как-то в августе на рассвете, когда стоял влажный, удушающий зной, он пришел на эту площадь, усталый после ночной работы в Амальпресс, и ненадолго остановился под этим же деревом. Сладкий аромат цветов магнолии, разлитый в неподвижном воздухе, был подобен прикосновению теплой ладони, волнующему, как ласка. Биллу никогда не забыть этого раннего утра из-за случая, который с ним тогда произошел. К нему пристал гомосексуалист, откровенно сделавший гнусное предложение. Билл лишь бросил взгляд на незнакомца — это был хорошо одетый стройный блондин, лет тридцати с небольшим — и зашагал, ничего не ответив и даже не возмутившись. Ему стало неловко и в то же время жалко этого беднягу, который пошел за ним, все настойчивее повторяя свое предложение. Он немного запыхался, и его грудной голос звучал сейчас нелепо и жалобно. Однако, когда блондин схватил Билла за руку, тот резко высвободился и пригрозил поколотить его. Блондин остановился и громко сказал: «Если в такое время тебя потянуло сюда прогуливаться, значит, ты испытываешь подсознательное влечение».
Билл Годкин так и не смог понять, по какой причине — если причина вообще существовала — гомосексуалисты Вашингтона избрали для свиданий эту площадь, расположенную столь близко от резиденции президента. Выйдя на Пенсильвания-авеню, он остановился. После того, как в светофоре против Белого дома зажегся зеленый свет, Билл пересек улицу и зашагал вдоль громоздкого здания цвета старой кости, построенного в неоклассическом французском стиле, где в свое время помещался госдепартамент. Билл снова подумал о Даллесе — этому мужественному и цельному человеку вредило кальвинистское мировоззрение. Мог ли государственный деятель с пуританскими взглядами понять Латинскую Америку? И как будут развиваться теперь события на Кубе? Пока продолжаются расстрелы сторонников Фульхеисио Батисты, виновных в зверствах и других преступлениях, революционное правительство «временно» взяло в свои руки управление «Кьюбан телефон», дочерней компании треста «Юнайтед Стейтс телефон энд телеграф». Национализация других американских предприятий неизбежна, размышлял Годкин, это произойдет рано или поздно. Но какую позицию займет правительство Соединенных Штатов? Билл догадывался, что кто-нибудь из конгрессменов произнесет в Капитолии речь, напоминая о правах человека и протестуя против расстрелов в Гаване, однако государственные мужи лишь тогда проявят подлинное негодование, угрожая земле и небу, когда Фидель Кастро начнет конфисковывать имущество граждан Соединенных Штатов. Билл Годкин остановился, выколотил потухшую трубку о каблук и, снова набивая ее, вспомнил, как Макиавелли советовал принцу, чтобы тот в случае необходимости приказывал убивать своих подданных, но не трогал их собственности, так как человек скорее забудет смерть отца, чем потерю достояния.