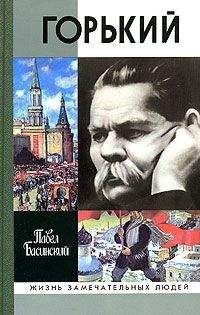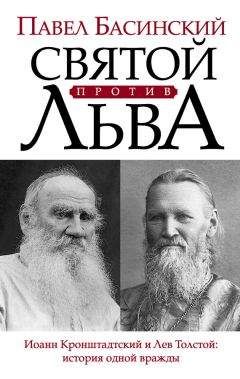Все выпускницы были одеты в вишневые платья, с рукавами в три четверти, из которых так еще по-детски невинно и беззащитно торчали бледные девичьи предплечья. Бальные платья – ах! ах! увы! увы! – были недостаточной длины, чтобы сойти за настоящие бальные . Но руки вчерашних школьниц по локоть обтягивали белые лайковые перчатки, а волосы их были собраны наверх короной, совсем как у настоящих ladies .
Эта прелестная и, конечно, загодя и не раз горячо обсуждавшаяся бальная униформа смотрелась особенно трогательной потому, что была прощальной. Так и казалось, что сейчас девочки бросят своих кавалеров, откомандированных на бал из Александровского пехотного училища и от смущения поминутно убегавших в швейцарскую покурить, соберутся в свой круг и тихой песней проводят последний день детства, которое еще вчера казалось несносно затянувшимся, а вот теперь его почему-то ужасно жаль!
Впрочем, такие глупые фантазии возникали только в головах пожилых гостей, сидевших на стульях в импровизированных зрительских рядах. В центре зала было весело! Вальсирующие пары грациозно скользили в два и три такта по навощенному до блеска паркету. Духовой городской оркестр был в ударе! Даже старички невольно притопывали ножками и покачивали плечиками в ритмах Глинки и Штрауса и вспоминали минувшие дни .
Опекать сенатора поручили пожилой классной даме, немке с перепудренным лицом и ярко подведенными губами. Она взялась за дело обстоятельно и надоела ему смертельно. К тому же его злила мысль, что новый директор гимназии отрядил ухаживать за ним именно ее, видимо, решив, что она наиболее соответствует его возрасту и характеру. Это не только тяготило его как мужчину, но и возмущало его демократизм.
«Ну почему? – спрашивал себя Недошивин. – Почему мы не можем быть свободными даже в мелочах? Ведь я вижу, что этой старой калоше нехорошо, тягостно со мной. Да она просто боится меня, такого важного чиновника, перед которым трепещет ее начальник. Она ждет не дождется конца, терзаясь от страха, что делает что-то не так, и действительно делает всё не так! Как ужасно она шла под руку, точно я мебель передвигал! Ну зачем это ей и мне? Это бесчеловечно, в конце концов!»
Иван Платонович почему-то верил, что молодые люди в центре зала понимают его и сочувствуют. Сенатор не шутя подумывал: а не выкинуть ли фортель? Взять и отправиться под лестницу покурить с юнкерами на глазах изумленного швейцара. Потом вызвать официанта из столовой: «Принеси-ка нам, братец, по рюмашке и чего-нибудь закусить». И – хлопнуть водки с молодежью тайком от старшего офицера. Ах, как это сладко, именно тайком! Сколько будет в училище пересудов: водку! с сенатором! под лестницей!
Его взгляд остановился на Наденьке. Она танцевала с высоким статным юнкером и выделялась среди выпускниц не только печальным лицом, но длинным ростом и слишком развитыми для ее возраста женскими формами. Тесное платье делало ее дылдою, гадким утенком, но оно же придавало ее фигуре что-то неприлично обворожительное. Казалось, грусть на ее ангельском личике происходит от разлада души и тела. Тело смеялось над душой. Душа стеснялась тела. Казалось, этой девочке неуютно в самой себе, и она страдает от этого тем больше, что без подсказки опытного человека не может понять причины своего страдания. Но главное – она не знает, какой страшной властью она обладает над этими опытными людьми!
Иван Платонович ощутил в себе незнакомый прилив жалости и нежности. Но вместе с тем он понял, что в нем появилось нечто скверное, декадентское . Как будто внутри кто-то напакостил. И вот ему придется носить в себе это и лгать в глаза людям, по-прежнему изображая из себя приличного человека.
Недошивин так испугался, что побледнел. Классная дама заметила это и, проследив глазами сенаторский взгляд, шепнула:
– Надежда Аренская, наша лучшая выпускница!
– О ком вы? – невинно-лживым голосом спросил Недошивин.
– О той девушке, что вальсирует с офицером. Вы на нее изволили обратить внимание, ваше превосходительство?
– Да, вы правы. У нее такой печальный взгляд. Ее кавалер, похоже, совсем растерялся.
– Вы находите? – всполошилась дама. – После танца я сделаю ей замечание!
«Черт бы тебя побрал!» – подумал Недошивин.
– Не стоит! – сказал он вслух. – В такой-то день! Мадемуазель просто задумалась о чем-то. Или – хе-хе! – о ком-то. Бывает!
– Она всегда такая, ваше превосходительство, – раздался скрипучий мужской голос.
Недошивин с дамой обернулись. Господин пожилых лет с надменным лицом подслушивал их разговор с немкой.
– Позвольте представиться, – без смущения сказал он. – Игнатий Федорович Огарков. Преподаю латынь и греческий в сём заведении. Заинтересовавшую вас особу знаю с младых ногтей-с. Не могу пожаловаться на поведение и прилежание. Да-с! Девица неглупая и даже слишком развитая для своих лет. Что касается ее печального вида, то ut ridentibus, ita flentibus , как писал Гораций. Смех и слезы привлекательны одинаково. Вы не находите, ваше превосходительство?
– Игнатий Федорович! – вспыхнула классная дама. – Я полагаю, Ивану Платоновичу это неинтересно знать.
– Отчего же-с? – возразил Огарков. – Мне как раз показалось…
Иван Платонович чувствовал, что краснеет. Он уже ненавидел этого Огаркова и оценил деликатность немки. Между тем его мучитель продолжал:
– Смею добавить, что грусть мадемуазель Аренской имеет истоком не только ее возвышенные качества. Если бы вы, ваше превосходительство, имели несчастье знать ее отца…
– Игнатий Федорович! – взвизгнула классная дама.
– Да что вы меня все время перебиваете! – обиделся Огарков. – Можно подумать, в попечительском совете не знают, что учитель географии Павел Фомич Аренский безобразно пьет! Тоже мне нашли секреты!
Весьма кстати закончились танцы, и всех торжественно пригласили на ужин. Недошивин предложил немке руку с искренней любезностью, от которой та просияла. Огарков увязался за ними.
Надя Аренская сидела в дальнем конце стола с бокалом лимонада в руке и рассеянно пила из него по глоточку. По-видимому, она совсем не слушала своего юнкера, что-то непрерывно говорившего ей с очень серьезным лицом. Говоря с Надей, он постоянно теребил усики левой рукой, и это не понравилось сенатору. «Будто выщипать их хочет!» – неприязненно подумал он. Но тут же ему стало стыдно. Он понял, что вовсе не этот мальчишка, недавно произведенный в офицеры, а он, пятидесятичетырехлетний чиновник, нелеп и смешон своей ревностью и завистью, с которыми он смотрит на кавалера этой девочки.
Иван Платонович ужасно разозлился на себя! К тому же он вспомнил отца Наденьки…
Невысокий седовласый человек с благородными, болезненно истонченными чертами лица, еще не оправившийся после запоя, стоял перед попечительским советом и страдальчески смотрел вниз. На него орал – да, орал, а не кричал! – господин попечитель, человек прямой и грубый. Потом учителя попросили выйти и ждать решения своей судьбы. Тогда-то Иван Платонович и произнес одну из своих лучших речей о бедственном положении гимназических учителей и о том, что высокие идеалы, которые выносятся из университетских стен, разбиваются вдребезги о вопиющие недостатки толстовской реформы образования. К концу его выступления господин попечитель засмеялся:
– Вас послушаешь, так мы должны терпеть пьяниц потому, что реформа не удалась!
Недошивин напомнил о смерти жены Аренского.
– Бог с вами! – вздохнул попечитель. – По совести, мне жаль Аренского. Человек он недурной и учитель хороший, хотя для своего положения слишком своенравен. Я знал его жену, она одна держала его в руках. Жалко девчонку! У нее такое печальное лицо!
Когда члены совета расходились, Аренский подошел к Недошивину и пожал ему руку. Ладонь его была потной, рука дрожала, но глаза смотрели на сенатора прямо и насмешливо.
– Не пейте! – попросил его Недошивин. – Ваше горе не искупит поломанной жизни вашей дочери.
– Не обещаю, ваше превосходительство, – отвечал Павел Фомич, и в глазах его вспыхнул голодный огонек. – Не обещаю даже, что сию минуту не пойду в ближайший трактир и не напьюсь в дым-с.
Недошивин покачал головой. Расстались они холодно. И сейчас, найдя глазами Аренского за столом, Иван Платонович натолкнулся на тот же холодный взгляд. Павел Фомич был трезв, чисто выбрит и недавно постригся. Костюм старого фасона сидел на нем не без изящества, а манжеты и воротничок были накрахмалены и выглажены заботливой рукой. На всем облике Павла Фомича была печать женской заботы.
– Амалия Людвиговна, – обратился Недошивин к немке, – этот господин… как, бишь, его, Огарков… Тот, который цитировал Горация. Он что-то сказал о пьянстве отца той девушки. Он и в самом деле пьет?
– Павел Фомич – добрый и благородный человек, – поджав губы, отвечала немка. – Очень странно, что вы не вспомнили его. Ведь вы помогли ему однажды… И он этого не забыл, ценит и чувствует себя вам обязанным. Но никогда не признается в этом. Такой гордец и упрямец!