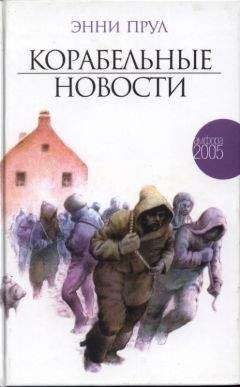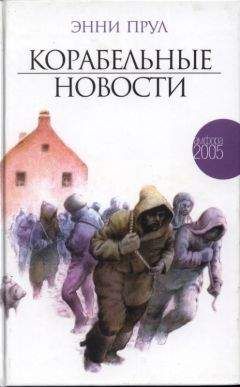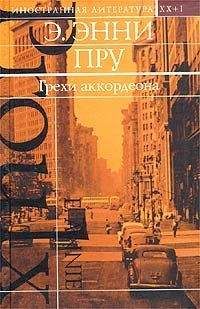Минуту спустя он добавил уже совсем другим тоном, что в пятницу вечером маринует рыбу по-гречески и готовит красные перцы на вертеле. Не хочет ли Куойл зайти?
Он хотел, только никак не мог понять, о каких шестеренках шла речь.
***
В конце весны Эд Панч вызвал Куойла к себе и сказал, что тот уволен. Его глаза смотрели куда-то мимо уха Куойла.
— Это вроде временного увольнения, из-за спада спроса. Если потом все наладится…
Куойл устроился на полставки водителем такси.
Партридж знал, почему это произошло. Он уговорил Куойла надеть огромный передник, дал ему ложку и банку.
— Его дети вернулись после колледжа. Заняли твое место. Тут не о чем горевать. Все правильно, размазывай эту горчицу по мясу. Пусть пропитается.
В августе, посыпая укропом рагу по-русски, с говядиной и солеными огурцами, Партридж сказал:
— Панч хочет, чтобы ты вернулся. Говорит, если ты все еще заинтересован, приходи утром, в понедельник.
Панч изобразил сомнение. Развернул целое шоу, что, дескать, снова берет Куойла, но в качестве особого одолжения. Временно.
Дело было в том, что Панч заметил, как Куойл, сам по себе неразговорчивый, располагал других к высказываниям. Это была его единственная полезная способность. Его внимательная поза, его лестные кивки вызывали у людей настоящий поток воспоминаний, размышлений вслух, теоретизирований, догадок, описаний, кратких обзоров и пояснений, красочных историй из жизни и желание рассказать все это совершенно незнакомому человеку.
Так и повелось. Уволен, принят на работу в качестве помощника на мойке машин, снова принят на старую работу.
Уволен, взят на должность таксиста, снова принят на работу.
Так он и прыгал туда-сюда по всему округу, выслушивая споры в комитетах по канализационным и дорожным работам, печатал истории о составлении смет на восстановление мостов. Любое решение местных властей казалось ему судьбоносным. В профессии, которая учила своих адептов пользоваться низкими свойствами человеческой натуры, чтобы открывать людям глаза на изъеденный ржавчиной металл цивилизации, Куойлу удавалось сохранить иллюзию постоянного прогресса. В атмосфере разрушения, дымящейся зависти и ревности он искал рациональный компромисс.
***
Куойл и Партридж ели фаршированную форель и креветки с чесноком. Меркалии не было. Куойл отодвинул в сторону салат из сладкого укропа. Наклонился, чтобы поднять упавшую креветку, когда Партридж постучал ножом по бутылке с вином.
— Объявление. О нас с Меркалией.
Куойл улыбался. Он думал, что у них будет ребенок. Уже выбрал себя в крестные.
— Переезжаем в Калифорнию. Отъезд в пятницу вечером.
— Что? — сказал Куойл.
— За чем мы едем? За свежими продуктами, — сказал Партридж. — За вином, спелыми помидорами, огромными грушами. — Он налил fume blanc, а потом сказал Куойлу, что на самом деле он едет туда не ради овощей, а ради любви.
— Все самое значительное происходит ради любви, Куойл. Она — двигатель жизни.
Он сказал, что Меркалия бросила свою диссертацию и устроилась на «синеворотничковую» работу. Путешествия, ковбойские сапоги, деньги, шипение воздушных тормозов, четыре динамика в кабине и записи струнного квартета в фонотеке. Записалась в школу вождения для дальнобойщиков. Закончила ее. «Оверланд-Экспресс» в Саусалито пригласила ее на работу.
— Она первая в Америке чернокожая женщина — дальнобойщик, — сказал Партридж, моргая, чтобы скрыть слезы. — Мы уже нашли квартиру. Она выбрала третью из тех, что ей показали. — Партридж сказал, что в этой квартире есть кухня с французскими дверями, райский навес из бамбука во внутреннем дворе. Садик размером с коврик для молитвы. В котором он будет преклонять колена.
— У нее появилась нью-орлеанская лихорадка. И я поеду туда. Буду делать сэндвичи с копченой утятиной, охлажденную куриную грудку с эстрагоном, чтобы она брала с собой в дорогу и ей не приходилось искать, где пообедать. Я не хочу, чтобы Меркалия заходила в те места, где собираются эти водители грузовиков. Буду выращивать эстрагон. Могу устроиться на работу. Литературных редакторов всегда не хватает. Могу найти работу где угодно.
Куойл попытался их поздравить, но когда он бесконечно долго тряс руку Партриджа, у него никак не получалось ее отпустить.
— Слушай, приезжай нас навестить, — сказал Партридж. — Не пропадай.
И они снова пожали руки, сотрясая воздух так, будто поднимали воду из глубокого колодца.
***
Куойл остался в грязном Мокингберде. Это место переживало свою третью смерть. За две сотни лет оно с трудом перешло от диких чащоб и лесных племен к фермерскому хозяйству, превратившись в город рабочих, механизмов и заводов по производству покрышек. Люди давно стали оттуда уезжать поэтому центр города опустел, а крупные магазины умерли. Заводы были выставлены на продажу. Обветшавшие улицы, молодежь с оружием в карманах, длительные словесные дуэли политиков, мозоли на языках и отвергнутые идеи. Кто знает, куда ушли люди? Наверное, в Калифорнию.
Куойл покупал продукты в гастрономе А&В, заправлялся на станции D&G и ставил машину на станцию R&R — если ему нужны были новые ремни или что-нибудь другое. Он писал свои статьи, жил в арендованном трейлере и смотрел телевизор. Иногда мечтал о любви. Почему бы и нет? И о свободной стране. Когда Эд Панч уволил его, он устроил пиршество с вишневым мороженым и консервированными равиоли.
Он отделил свою жизнь от времени. Он считал себя газетным репортером, но не читал ничего, кроме «Мокингберд Рекордз». Поэтому ему удавалось игнорировать терроризм, изменения в климате, рушащиеся правительства, загрязнение окружающей среды, болезни, банковские кризисы, обилие строительного мусора и разрушающийся озоновый слой. Вулканы, землетрясения и ураганы, мошенничество на религиозной почве, неисправные машины и ученые-шарлатаны, массовые и серийные убийцы, волнообразная заболеваемость раком и СПИДом, истребление лесов и взрывающиеся самолеты были так же далеки от него, как искусство плетения косичек, рюши и вышитые розочками подвязки. Научные ежедневники захлебывались репортажами о мутировавших вирусах, о машинах, дарящих жизнь полумертвым людям, о нашумевшем открытии, что все галактики обреченно и с роковой скоростью стремятся к невидимому Великому Притяжению, как мухи к соплу пылесоса. Все это касалось кого-то другого, чужих жизней. Он ждал, когда начнется его собственная.
У него появилась привычка ходить вокруг трейлера и спрашивать вслух: «Кто знает?» Он говорил: «Кто знает?», потому что на самом деле никто ничего не знал. Этим он хотел сказать, что могло произойти все что угодно.
Монета, вращающаяся на кромке, может упасть в любую сторону.
В давние времена влюбленный моряк мог послать объекту своей страсти кусок рыболовной лески, завязанной легким узлом истинной любви.
Если узел возвращался назад в том же виде, в каком и был отправлен, то отношения складывались неблагоприятно. Если узел возвращался обратно аккуратно подтянутым, то страсть была взаимной.
Но если узел оказывался опрокинутым — это было молчаливым советом «отчаливать».
Потом на собрании он встретил Петал Беа. Она была тонкая, влажная и жаркая. Она ему подмигнула. У Куойла, как у всех больших мужчин, была слабость к маленьким женщинам. Он стоял рядом с ней возле стола с закусками. Серые, близко посаженные глаза, вьющиеся волосы цвета дубовой коры. Под искусственным освещением ее кожа выглядела бледной, как свечной воск. Веки светились каким-то неясным густым светом. В розовом свитере поблескивала металлическая нить. Этот легкий блеск создавал вокруг нее какое-то мерцание, будто окутывал светом. Она улыбнулась перламутровыми, влажными от сидра губами. Его рука метнулась к подбородку. Она выбрала печенье с глазками, выложенными глазурью, и миндальным орешком вместо рта и смотрела на него, пока ее зубы делали из печенья молодой месяц. Невидимая рука свивала внутренности Куойла в крутые зигзаги и петли. Из-под его рубашки раздался утробный рык.
— Ну что, — сказала она. У нее оказался живой голос. Она сказала то, что говорила всегда. — Хочешь на мне жениться? — Она подождала шутливого и остроумного ответа. Заговорив, она неуловимо изменилась и стала провоцирующей. Эротизм покрывал ее, как ровный слой воды на какую-то секунду покрывает ныряльщика, появляющегося на поверхности.
— Да, — серьезно и искренне сказал он. Она решила, что это бьло остроумно. Она засмеялась и сплела свои пальцы с острыми ногтями с его пальцами. Пристально посмотрела в его глаза, будто оптик, ищущий изъян. Какая-то женщина взглянула на них и скорчила гримасу.
— Пойдем отсюда, — прошептала она. — Выпьем. Сейчас семь двадцать пять. Я думаю, к десяти я с тобой пересплю. А ты что об этом думаешь?