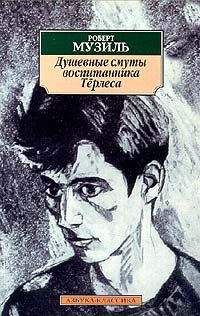Маленький Тёрлес скорчил недовольную гримасу по поводу этой опеки, а Байнеберг ухмыльнулся полыценно и немного злорадно.
— Вообще, — обратился надворный советник к остальным, — я хотел бы попросить всех вас, если чтонибудь случится с моим сыном, сразу же известить меня.
Это вызвало все-таки у юного Тёрлеса бесконечно тоскливое «Ну, что может со мной случиться, папа?!» — хотя он уже привык к тому, что при каждом прощании ему досаждают такой чрезмерной заботливостью.
Другие тем временем щелкали каблуками, подтягивая при этом изящные шпаги, и надворный советник прибавил:
— Никогда не знаешь, что случится, а мысль, что мне сразу обо всем сообщат, очень успокоительна для меня; ведь может и так выйти, что у тебя не будет возможности написать.
Затем подошел поезд. Надворный советник Тёрлес обнял сына, госпожа фон Тёрлес плотнее прижала вуаль к лицу, чтобы скрыть слезы, друзья поочередно откланялись, затем кондуктор закрыл дверь вагона.
Супруги еще раз увидели высокий, голый задний фасад училища, мощную, длинную стену, ограждавшую парк, затем справа и слева пошли только серо-бурые поля и одиночные плодовые деревья.
Молодые люди покинули тем временем вокзал и шли двумя рядами гуськом по обоим краям улицы — хотя бы так спасаясь от густой и вязкой пыли — в сторону города почти без разговоров.
Было начало шестого, и поля окутало суровостью и холодом — в предвестии вечера.
Тёрлес очень погрустнел.
Может быть, виною тому был отъезд родителей, а может быть, лишь неприютная, равнодушная меланхолия, лежавшая сейчас тяжестью на всем вокруг и уже на расстоянии нескольких шагов размывавшая формы предметов тяжелыми тусклыми красками.
То же страшное безразличие, что уже всю вторую половину дня лежало на всем, подползало теперь по равнине, а за ним, клейким шлейфом, полз туман, прилипая к вспаханным после пара полосам и свинцово-серым свекловичным полям.
Тёрлес не смотрел ни вправо, ни влево, но это чувствовал. Шаг за шагом ступал он в следы, только что вдавленные в пыль ногой впереди идущего, и потому чувствовал это как что-то неизбежное, как каменную силу, которая сводила и сжимала всю его жизнь в это движение — шаг за шагом — по одной этой линии, по одной этой узкой полоске, тянущейся в пыли.
Когда они остановились у перекрестка, где вторая дорога сливалась с той, по которой они шли, в круглый вытоптанный пустырь и где косо вонзился в воздух трухлявый путевой указатель, эта противоречащая их окружению линия показалась Тёрлесу криком отчаяния.
Они пошли дальше. Тёрлес думал о своих родителях, о знакомых, о жизни. В этот час одеваются для гостей или решают поехать в театр. А потом идут в ресторан, слушают оркестр, заходят в кофейню. Завязывают интересное знакомство. До утра длится ожидание какого-нибудь галантного приключения. Жизнь, как чудесное колесо, выкатывает из себя то и дело новое, неожиданное…
Тёрлес вздыхал от этих мыслей, и с каждым шагом, приближавшим его к тесноте училища, в нем что-то стягивалось все туже и туже.
Уже сейчас стоял у него в ушах звук звонка. Ничего он так не боялся, как этого звонка, который непреложно определял конец дня, — как жестокий удар ножом.
Он ничего-то и не изведал, и жизнь его была сплошным прозябанием, но этот звонок прибавлял ко всему еще и глумление, повергая его в дрожь от бессильной злости на самого себя, на свою судьбу, на загубленный день.
Больше ты ничего уже не изведаешь, в течение двенадцати часов ты ничего уже не изведаешь, на срок в двенадцать часов ты мертв — таков был смысл этого звонка.
Когда компания молодых людей подошла к первым низким домам, похожим на лачуги, Тёрлеса отпустили эти унылые мысли. Словно захваченный каким-то внезапным интересом, он поднял голову и стал напряженно вглядываться в мутные недра маленьких, грязных строений, мимо которых они проходили.
У дверей большинства из них стояли женщины — в халатах и грубых рубахах, с широкими грязными ногами и голыми смуглыми руками.
Если они были молодые и крепкие, им в шутку бросали грубоватые славянские словечки. Они подталкивали друг друга локтями и подсмеивались над «молодыми господами», иная и вскрикивала, когда слишком уж сильно задевали, проходя мимо, ее груди, или сквозь смех отвечала ругательством на шлепок по бедру. А иная лишь с гневной суровостью смотрела вслед уходившим; а крестьянин, если он случайно тут оказывался, улыбался смущенно — наполовину неуверенно, наполовину добродушно.
Тёрлес был в стороне от этой озорной, не по возрасту развитой мужественности своих друзей.
Объяснялось это отчасти, наверно, известной робостью в делах пола, свойственной почти всем единственным детям, но в большей мере особым характером его чувственности, которая была скрытнее, мощнее и мрачнее, чем чувственность его друзей, и выражала себя труднее.
В то время как другие бесстыдничали с женщинами скорее, пожалуй, «для шика», чем от вожделения, душа молчаливого маленького Тёрлеса была взбудоражена и знала бич действительного бесстыдства.
Он с такими горящими глазами заглядывал через оконца и угловатые, узкие подворотни в недра этих домов, что у него постоянно рябило в глазах.
Полуголые дети копошились в грязи дворов, там и сям юбка работающей женщины открывала подколенные ямки, тугие складки холста сжимали тяжелую грудь. И словно все это совершалось даже в совсем другой, животной, давящей атмосфере, из сеней домов тек спертый, тяжелый воздух, который Тёрлес жадно вдыхал.
Он думал о старинных картинах, которые видел в музеях, но по-настоящему не понимал. Он ждал чего-то, как и от этих картин всегда ждал чего-то, что никогда не случалось. Чего?.. Чего-то неожиданного, невиданного до сих пор; невероятного зрелища, которое совершенно не мог представить себе; чего-то, что словно когтями схватит его и растерзает на части; события, которое каким-то совсем еще неясным образом должно быть связано с грязными халатами женщин, с их грубыми руками, с их низкими каморками, с… с замаранностью в грязи их дворов… Нет, нет… Он чувствовал теперь только огненную рябь в глазах; словами этого не сказать; это совсем не так скверно, каким оно делается из слов; это что-то совершенно немое — сдавленность в горле, мимолетная мысль, и только если непременно нужно сказать это словами, только тогда оно получается таким, но тогда оно и похоже лишь отдаленно, как при огромном увеличении, когда не только видишь все яснее, но и видишь вещи, которых тут вовсе нет… И все-таки было стыдно…
— Деточка тоскует по дому? — насмешливо спросил его вдруг долговязый и на два года старше его фон Райтинг, обративший внимание на молчаливость и помрачневшие глаза Тёрлеса. Тёрлес усмехнулся вымученно и смущенно, и ему показалось, будто ехидный Райтинг подслушивал, что творилось у него внутри.
Он не ответил. Но тем временем они дошли до церковной площади городка, которая имела форму квадрата и была вымощена булыжником, и теперь расходились в разные стороны.
Тёрлесу и Байнебергу еще не хотелось возвращаться в училище, а другие, не имея разрешения на долгую отлучку, пошли домой.
Эти двое зашли в кондитерскую.
Там они сидели за маленьким круглым столиком, у окна, выходившего в сад, под газовой люстрой, огни которой тихо жужжали за молочными стеклянными шарами.
Они удобно устроились, заказывали разные сорта водок, курили папиросы, ели в промежутках печенье и наслаждались уютом единственных гостей. Ибо разве что в задних комнатах сидел еще какой-нибудь одинокий посетитель за стаканом вина; спереди было тихо, и даже тучная, в летах кондитерша, казалось, уснула за своей стойкой.
Тёрлес смотрел — совсем рассеянно — в окно — на пустой сад, который постепенно темнел.
Байнеберг рассказывал. Об Индии. Как обычно. Ибо его отец, генерал, служил там у англичан в бытность молодым офицером. И он не только, как прочие европейцы, привез оттуда резные изделия, ткани и фабричной работы божков, но еще ощутил и сберег какой-то таинственный, сумеречный, призрачный свет эзотерического буддизма. То, что он там узнал и что вычитал позднее вдобавок, он передавал сыну с самого его детства.
С чтением, впрочем, дело обстояло у него весьма своеобразно. Он был кавалерийский офицер и книг вообще отнюдь не любил. Романы и философию он презирал в одинаковой мере. Когда он читал, он не хотел задумываться над мнениями и спорными вопросами, а хотел, открывая книгу, войти, словно через потайную дверь, в хранилище отборного знания. Ему требовались книги, одно обладание которыми было уже как бы тайным орденским знаком, как бы гарантией неземных откровений. А это он находил лишь в книгах индийской философии, которые и казались ему не просто книгами, а откровениями, истиной — кодами, как алхимические и манические книги средневековья.