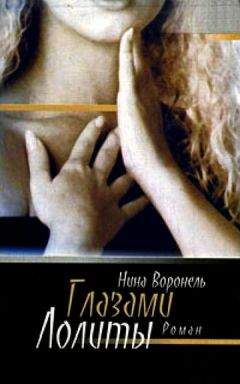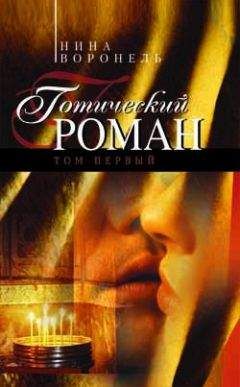Ури, стиснув зубы, прикрыл глаза ладонью в надежде снова уснуть - его это все не касалось, он не обязывался решать чужие проблемы в чужой стране. Тонкий американский голос взвизгнул пронзительно то ли от боли, то ли от страха, словно призывая Ури к действию. Он опять повторил себе, как заклинание, что это не его дело, но темная волна ярости уже накатывала изнутри, поднимаясь все выше и выше, пока не перехватила ему дыхание. Теперь он уже не владел собой, тело его напряглось, готовое к прыжку. Он отвел ладонь от глаз и сказал тихо, но внятно:
- Сейчас же оставьте ее в покое!
Все головы мотнулись в его сторону, чтобы удостовериться, что он и есть источник беспокойства, но, не найдя в нем ничего интересного, дружно вернулись назад, к спектаклю. Тогда он стремительно перемахнул через проход, уже не помня себя, а доверяясь лишь автоматической точности своего тренированного тела. Его руки, ноги, плечи и пальцы хорошо знали свое дело: через пару секунд все трое, - и бритоголовый Лотар, и разноцветные близнецы,- корчились на полу в проходе. Остальные замерли в напряженном молчании, явно не веря своим глазам. Пользуясь этой короткой передышкой, Ури одной рукой рванул с полки рюкзак толстухи, которая боком, словно краб, ползла по проходу к его ногам. Другой рукой он рванул ее вверх, сунул ей рюкзак и крикнул "Беги!"
Несмотря на шок, она сразу все поняла, схватила рюкзак и метнулась по проходу к дверям. Ее бегство послужило сигналом: сорок промытых пивом и пением глоток испустили пронзительный воинский клич, сорок кожаных тел в едином броске ринулись к Ури. Их численное превосходство поначалу даже послужило ему на пользу: ограниченные узкой коробкой вагона, они попросту мешали друг другу, и ему ничего не стоило отражать набегающие черные волны поднятых рук и ощеренных ртов. Однако он не успел занять единственно выгодную позицию - спиной к стене, да и стены подходящей не было, были только вагонные окна, перегороженные откидными столиками. С такого столика на него и прыгнули сзади, - трое или четверо разом, он не мог бы сказать сколько. Длинная сильная рука зажала его шею локтевым сгибом, в то время, как его собственные руки заломили ему за спину, вцепившись в каждую, по крайней мере, в пяти местах от плеча до запястья. Воинский клич, слегка было оскудевший, вновь усилился до дребезжания оконных стекол, взмыл на самые высокие ноты, на долю секунды повис под потолком и вдруг опал, словно изо всех напрягшихся для крика легких разом выпустили воздух. Стало очень тихо, даже дыхания не было слышно.
- Вы что, балбесы? - сказал голос Волка. - Опять за свое?
Никто не ответил. Локтевой зажим на горле Ури напрягся, но не ослабился, так что смотреть он мог только на мутный вагонный фонарь над проходом. Несколько четких шагов по линолеуму, и клыкастая волчья морда, подгримированная щеточкой усов под человечью, заслонила свет фонаря.
Когда мамка сказала, что у нас забастовка, я сперва сказал ей "не хочу!" Не потому, что я так люблю выгребать дерьмо из- под свиней, а потому, что сегодня фрау Инге дала бы мне пять марок на игровой автомат, чтобы я мог играть. Мамка сильно сердится на фрау Инге за то, что она каждую неделю выдает мне пять марок, но ничего не может против этого поделать, потому что это мои деньги, я их заработал. Я-то заработал больше, но остальное она отдает мамке, а эти пять марок - мои.
Когда я сказал "не хочу забастовку!", мамка влепила мне оплеуху и пригрозила, что выпорет меня, если я буду очень раскрывать рот.
- Пускай она не думает, - орала мамка, - что она может подкупить тебя этими жалкими марками! Она ведь берет их из моего кармана, а не из своего!
Почему она назвала мои марки жалкими, я понял: ей жалко, что фрау Инге отдает их мне, а не ей. Но насчет кармана она точно наврала - я сам много раз видел, как фрау Инге достает их из своего кармана, а не из мамкиного.
Пока я обо всем этом думал, мамка кончила кричать и стала вертеться перед зеркалом, перебрасывая волосы то с левого уха на правое, то с правого уха на левое, будто это могло сделать ее хоть немного похожей на фрау Инге. Мало надежды, - с ее-то жирным задом! Но она, по-моему, себе очень нравилась, - она накрасила глаза синим, намазала губы вишневой помадой и долго собой любовалась. Правда, верхнюю губу ей пришлось полностью нарисовать на коже, потому что у нее, как и у меня, верхней губы нет, есть только узкая-узкая полоска совсем без уголков. Потом она напялила свое новое вишневое пальто с большими золотыми пуговицами и опять залюбовалась собой в зеркале. Наглядевшись на себя, она взяла сумочку и объявила, что уезжает в город и будет ночевать у тети Луизы.
Когда я это услышал, я громко заплакал, сам не знаю, почему. Наверно, потому, что у нее в сумочке были деньги, а я из-за ее забастовки не пошел сегодня в замок и не получил мои пять марок на игровой автомат.
Она остановилась в дверях и, не оборачиваясь, спросила своим самым железным голосом:
- Чего ревешь? Хочешь, чтобы я осталась дома?
Тогда я заплакал потише, - испугался, что она и вправду останется и я не смогу поиграть в Инге и Карла.
Это ее успокоило, она посмотрела на меня и сказала уже не так сердито:
- Ты ведь не боишься оставаться один, ты уже взрослый, правда?
Я закивал, но слезы все текли и текли у меня по щекам и никак не останавливались. Тогда ей стало меня жалко, а может, ей очень хотелось уехать, не знаю, но она вынула из сумочки две марки и протянула их мне:
- Можешь пойти в "Губертус" и поиграть на автомате.
Я хотел сказать ей, что мне полагается пять марок, а не две, но пока я глотал слезы, она уже закрыла за собой дверь и быстро зашагала к автобусной остановке, наверно, боялась опоздать на автобус. И я подумал, что если я задержу ее из-за моих пяти марок, то она и вправду опоздает и я не смогу поиграть в Инге и Карла. Потому что при ней ничего не получится - она сразу заметит, рассердится и станет бить меня по рукам. Не понимаю, почему она так сердится, когда я играю в Инге и Карла, ведь я никому не мешаю,- Инге ничего об этом не знает, а Карла давно уже здесь нет. Не знаю, куда он делся, он исчез очень скоро после того, как я вошел из свинарника в кухню за бутербродом и увидел их на полу. Я так на них засмотрелся, что приклеился к полу и забыл про свой бутерброд. Я б так и простоял там весь день, глядя, как они возятся, но мамка подкралась сзади и выволокла меня во двор, при этом она шипела и брызгала слюной, как железная печка, на которую кто-то плюнул.
Сейчас мамка не могла мне помешать и мне очень хотелось поскорей начать играть в Инге и Карла, - так, чтобы руки у меня были от Карла, а ноги и все остальное - от Инге. Иногда мне приходится делать все наоборот - чтобы руки были от Инге, а ноги и все остальное от Карла, это когда мамка дома и я должен прятаться от нее под одеялом. Но сегодня я мог делать все, что захочу. Я запер дверь и начал думать о фрау Инге, - как я снимаю с нее сперва сапоги, потом чулки, а по- том начинаю ладонью медленно гладить ее ноги от колен вверх. У меня уже рот наполнился слюной и в глазах потемнело, будто за окном выключили солнце, но тут кто-то стал отчаянно колотить в дверь.
Я подумал, что это мамка не успела на свой автобус и вернулась, и начал быстро застегивать штаны. Но руки у меня дрожали и молнию заело на полпути, а в дверь колотили все громче и громче, так что мне пришлось выпустить рубаху поверх штанов и побежать отворять.По дороге я придумывал, как объяснить мамке, что я ей не сразу открыл, но это оказалась не она, а Дитер Швальб с соседней улицы, которого все называли Дитер-фашист, потому что он брил голову наголо и носил черные кожаные штаны и черные сапоги со стальными кнопками. Я решил, что ему зачем-то нужна мамка, потому что он никогда раньше меня не замечал, но оказалось, что он пришел за мной. Он сказал, что наша городская футбольная команда должна завтра в Мюнхене играть с какой-то другой командой, не помню, какой, и не хочу ли я поехать с ним в Мюнхен, чтобы кричать, свистеть и топать на стадионе в помощь нашим. Я ответил, что, конечно, хочу, но у меня нет денег на билет. Тут он увидел мои две марки на столе и сказал, что билет - ерунда: если я отдам ему эти две марки, он отвезет меня на станцию на своем мотоцикле без всякого билета, а дорогу до Мюнхена оплачивает клуб. И я подумал: а почему бы мне не поехать, раз дорогу оплачивает клуб, а мамки как раз нет дома? Она бы меня ни за что не пустила, а без нее я могу делать, что хочу - пусть знает, как ездить без меня ночевать к тете Луизе! Она ведь даже не спросила - а может, я тоже хотел бы с ней поехать?
Мне стало очень обидно, когда Дитер сунул мои две марки в карман, но мы так быстро побежали к его мотоциклу, что я не успел заплакать. Он прыгнул в седло, а мне велел сесть сзади и крепко обхватить его руками. И мы помчались по шоссе!
Я никогда раньше не ездил на мотоцикле, и мне было сперва очень страшно. Мне все время казалось, будто я сейчас упаду, и я стал все сильнее прижиматься к спине Дитера и представлять себе, что это Инге. Это мне так понравилось, что я даже забыл, что я мчусь на мотоцикле по шоссе. И вдруг Дитер обернулся и заорал сердито: