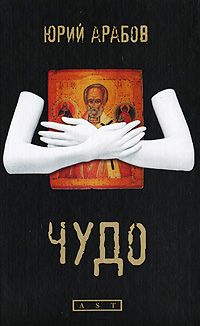– Чего тебе? – спросил он после паузы.
– Я, гражданин поп… Я тут вам принесла… Вроде подарка.
Она кивнула на авоську.
Батюшка опасливо посмотрел на снег и ничего не сказал.
– Уже отслужили сегодня?
Он не ответил.
– А я слышала, вас под кинозал оборудовать будут.
– Этот вопрос еще окончательно не решен, – пробормотал настоятель.
– Но ведь людям же нужно кино, так ведь?
Батюшка подышал на озябшие руки. Потом закашлялся.
– Ты крещена? – спросил он ее хрипло.
– Да вроде.
– Тогда почему спрашиваешь про кинозал?
– А что здесь такого? – не поняла она. – В городе об этом все говорят…
– Ну и доволен народ?
– Доволен. Но не всем.
Батюшка отер рукою иней с бороды. Он вдруг почувствовал в душе слепую давящую ненависть. Обычно, когда это происходило с ним, он клал на свои плечи и живот торопливый трехперстный крест. Но сейчас он почувствовал, что ему стыдно перекреститься перед ней. Что этот жест будет уликой против него, ничего не даст, а только ославит перед людьми.
– Дети есть? – спросил он глухо.
– Дочка.
– И тоже такая, как ты?
– Это вы про что?
– Кино любит?
– Любит. Из-за темноты. Они там целуются.
– Не крестила ее? – выдохнул он из себя, как зверь выдыхает вой.
– А зачем?
– Иди отсюда, – пробормотал настоятель.
– Ладно. Прощайте.
Клавдия Ивановна вытряхнула иконы на снег, как вытряхивают мусор, спрятала авоську в карман драпового пальто на ватине и пошла восвояси.
Настоятель приблизился к иконам, бегло вгляделся в их лики. Смущение оставило его. Он поцеловал каждую, несмотря на то, что Клавдия могла это видеть.
– Погоди! – крикнул он вслед. – Как звать-то тебя?
Она остановилась у заглохшего трактора.
– А это вам зачем?
– Молиться за тебя буду, – выдавил он, потому что так было надо.
– Да не стоит, – махнула она рукой со смехом. – Я же не верю!
Ей показалось, что это было с его стороны ухаживанием, крючком, заброшенным в душу. Теплая волна поднялась от живота к горлу. Она снова почувствовала себя молодой.
– А если б твоей дочери приказали покреститься? Что бы тогда… – спросил отец Андрей, прочтя по глазам ее ложное чувство и потрясенный такой реакцией.
– Кто приказал?
– Не знаю, кто… Правительство. Власти. Отвела бы ко мне?
Клавдия Ивановна пожала плечами. Она не поняла, о чем идет речь. Власти никогда такого не приказывали. И в ближайшем будущем приказать не могли.
Вышла через разрушенные церковные ворота. Чувствуя, что он смотрит ей вслед, выпрямила спину и гордо откинула голову назад.
А настоятель снова возвратился к своей пиле. Бревно надо было не только перепилить сегодня, но и переколоть. И это гарантировало, что вечером с семьей он не замерзнет. Оно было осиновым, это бревно. И гореть должно было жарче и дольше, чем березовое. Пусть с ленцой, голубоватым пламенем, не стреляя и не шутя, как березовое…
Инвалид без обеих ног развернул во всю ширь свою могучую гармошку. Оказалась она особенной, необыкновенной, потому что на складках мехов была нарисована голая восточная женщина с веером в руке.
– Давай, Василиса, согрей, – сказал ей интимно инвалид и весело заиграл «Утро красит нежным светом…», правда, несколько фальшиво и сбиваясь с ритма.
– Ну и гармошка у тебя, дядя Антип, – раздумчиво произнесла Татьяна, стоявшая напротив. – Прелесть. Похабщина.
– Это музыка моя верная, – ответил инвалид, безбожно фальшивя.
– А ты, поди, и спишь с ней, с музыкой? – осведомился молодой человек за спиной у Таньки, который раскрывал деревянный круглый стол, ставя во внутрь его тяжелую перегородку.
– А тебе что, завидно?
– Не завидно. А интересно.
– Василиса от меня отдельно живет. В коробке, – объяснил инвалид, имея в виду голую женщину и не переставая играть. – А без коробки музыка портится.
Мускулы Таньки пришли в движение. Она топнула ножкой на высоком каблуке разок, второй… Прошлась, стуча подошвой, по периметру комнаты, сметая пыль из неподметенных углов и заставляя мышей внизу прижиматься друг к другу и прятаться. Швы на ее черных чулках натянулись, лодыжки стали твердыми, как кегли. Лицо пошло пятнами.
– Нет, – сказала она вдруг. – Не танцуется.
Остановилась посередине комнаты и с укором поглядела на инвалида.
– А я могу другое, – сказал тот. – «Амурские волны» и «Марш монтажников-высотников».
– Какой там марш, дядя Антип? – искренно возмутилась Танька. – Ты понимаешь, что у меня журналист будет? С области! С центральной газеты! А ты со своей голой музыкой будешь здесь трындеть!
– И хорошо, – не сдался тот. – Пусть он про мою голую музыку напишет, а не только про надои.
– Да что с тобой говорить, ты же во!.. – Танька постучала кулаком по деревянному косяку. – А сажайте его на печь, ребята!..
Двое здоровых парней подхватили дядю Антипа под белы рученьки и вырвали у него гармонь.
Он умудрился укусить одного из них, а второму плюнуть в глаза. Но это не помогло – инвалида забросили под самый потолок, на печь, а музыку уронили в углу, сделав бесхозной и мертвой.
– Василису отдайте, гады! – кричал он. – Музыку обрат верните!..
– Ничего не получишь, – ответила ему снизу Танька. – Василиса без тебя отдохнет. А водки ему дайте.
Тот, что раскладывал стол, плеснул в стакан «Московской» из пузатой бутылки с маленькой зеленой этикеткой и протянул инвалиду на печь. Тот залпом махнул стакан, занюхал рукой и вслух заплакал.
Все от его слез почему-то успокоились, а Татьяна заглянула за печку. Мать сидела в закутке, сжавшись и поблескивая глазами, похожая на худого пушистого зверька.
– Ты ж обещала!.. – напомнила ей дочь.
– Соседка вышла куда-то, – сказала Клава. – Куда ж мне идти, на мороз?
В это время дверь в избу отворилась.
На пороге появились двое парней, несших в руках радиолу «Урал». У радиолы был зеленый глаз, который ловил все станции на свете, правда, с помехами и неразборчиво. Полированная деревянная крышка откидывалась сверху, и под ней находился двухскоростной проигрыватель грампластинок на 78 и 33 оборота.
– Ставьте на подоконник, – распорядилась Танька. – А что крутить будем?
– А вот что, – один из принесших «Урал» открыл свой портфель и вытащил оттуда рентгеновский снимок.
Танька посмотрела его на просвет, различив смутно грудную клетку и легкие, похожие на футбольную камеру.
– Это ж мертвец! – не поняла она.
– Не мертвец, – сказал парень. – Мертвец молчит, а этот играет.
– А чего-то холодно, – передернула плечами Танька. – Ты бы, Петь, затопил, не растаял бы…
Другой парень, что принес приемник, присел у печи и начал над ней колдовать.
А Танька снова зашла в закуток.
– Идешь, что ли? – сказала она нетерпеливо. – Сейчас уж Николай будет!
– Что-то он не торопится, – недовольно промолвила Клавдия Ивановна, вставая с табуретки и натягивая на плечи ватник.
– Обещал к семи, задержался, значит…
Клавдия Ивановна застегнулась на все пуговицы и вышла из своего укрытия.
Изба тем временем наполнилась гостями. Пришли трое дородных девушек, изображавших субтильность, напомаженных и страшных, как смертный грех. Глядя на них, хотелось заметить: «Широк русский человек…», но сузить их не представлялось возможным, раз уж сама жизнь их не сузила.
Танька расцеловалась с ними, причмокнув, словно вампир.
– Меня танцевать возьмите, – подал с печи голос дядя Антип. – А то я здесь под потолком пропаду. – …ну что, так и растопить не можешь? – спросила Петьку Таня, схватила с полки банку с керосином и плеснула со всего маху в печку.
Внутри печи что-то вспыхнуло, взорвалось и повалил из нее черный адский дым. Изба наполнилась смрадом.
– Ты же заслонку не открыла, дура, – сказала, кашляя, Клавдия Ивановна.
– А черт с нею! – беззаботно ответила Танька, но заслонку тем не менее отворила.
Кто-то распахнул окно на улицу.
А радиола тем временем крякнула, всхлипнула, будто очнулась от тяжелого горя. Кости на рентгеновском снимке захрипели под адаптером с корундовой иглой, ожили, зашевелились, зажглись неведомой жизнью, как при Страшном суде. И вдруг из динамика жахнул «Рок вокруг часов» Билла Хейли, искаженный почти до неузнаваемости кустарной некачественной записью. Смешавшись с морозным воздухом, он оказал на аудиторию электрическое действие.
Все начали топать ногами и плясать «русскую» слободскую, если такая существует на свете, то есть приседая, выбрасывая вперед руки и имитируя радость, которая рвется из груди.
– И я… Я с вами! – заорал с печи инвалид.
Какой-то парень стащил его вниз и начал с ним кружиться, прижимая к плечам, как девушку.
– Иди… Иди отсюда, мам! – крикнула Танька на Клавдию, наскочив и чуть не сбив ее с ног. – Или мы тебя убьем!..
– Иду… А Николай-то твой… здесь? – спросила непонятливая мать, которая вечно старалась вникнуть именно в те вопросы, которые не поддаются никакому вниканию.