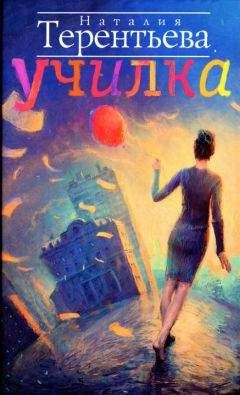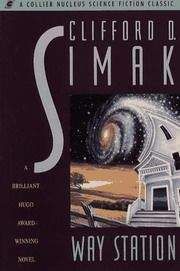Обычное дело — я люблю больше Никитоса. Он мальчик. Я никуда не денусь от тайного закона всех семей. Если у мамы сын и дочка, она сына любит больше. И точка! Я это говорю себе открыто, я с этим борюсь, но ничего поделать не могу. Мне обидно за Настьку, она моя плоть и кровь, она нежная, добросовестная, чистоплотная, заботливая, но люблю я больше балбеса Никитоса, который может прийти с физкультуры в одном носке, который не глупее сестры, но оценки получает ниже, дерется, встает посреди уроков и выходит побегать в коридор и вообще весь непредсказуемый, сложный, не всегда мне понятный. Не то, чтобы неразвитый… Нет. Просто развивается как-то не так, не в ту сторону.
Я погружена в детей. Их заботы волнуют меня чрезмерно. Но я не растворилась в них. Я — есть. Моя не бессмысленная работа, от случая к случаю, стала мне мала. Я хочу большего — решила я.
И я стала серьезно с собой разговаривать. Тебе сорок два года — сказала я самой себе. Можно еще устроиться на хорошую работу. На какую? Куда бы тебе хотелось? Мне бы хотелось… Ох, ну конечно, мне бы хотелось на телевидение, на большое, на центральное. Но что я там буду делать? Писать какие-то сценарии, не знаю… Что-то увлекательное, очень интересное. Но туда просто так не попадешь. Полезных знакомств у меня нет. Таких сумасшедших талантов, с которыми берут по щелчку, просто с улицы, у меня, вероятно, тоже нет. А если есть, я о них пока не знаю.
Тогда куда? Я хочу делать что-то реальное. Я хочу быть в коллективе. Я хочу быть не очень далеко от дома, потому что — Никитос. И потому что Настька. Если я буду уезжать в семь сорок утра, а приезжать в семь сорок вечера (работа с девяти до шести плюс средняя дорога по нашему городу), то Никитос совсем слетит с катушек. Перестанет учиться, пойдет во двор драться и пить энерготоник, закусывая серыми солеными тряпочками под названием «сушеные кальмары», с непременным просмотром порнороликов в телефоне. Настька же прильнет окончательно к Игоряше, может, и уйдет к нему, что меня совершенно не устраивает, потому что я ее люблю чуть меньше Никитоса, но люблю очень. И отдавать мягкотелому Игоряше для неправильного однополого воспитания не собираюсь.
Сейчас он приходит в субботу и под моим присмотром воспитывает, сколько хочет. Например, если он настойчиво объясняет, что обидчика накажет и простит Бог, но при этом Бога нет — есть теория Дарвина, а Настька смотрит на него доверчивыми глазами, и в голове у нее при этом образуется на моих глазах такая же хлюпающая, чавкающая сопливо-интеллигентская болотная трясина, за которую, в частности, я не люблю Игоряшу, тогда я решительно вмешиваюсь. И на правах главной (в нашей странной семье, ясно, — матриархат) объясняю, что Бог есть, но пока у Бога дойдут руки до оглоеда, который разорвал Настькин дневник и написал на нем большими матерными буквами нечто ужасно-нечленораздельное, может пройти слишком много времени. А мы живем сейчас и здесь. И здесь нужно бороться за свое место под солнцем. По трупам идти не нужно, но и щеки для битья девятилетним матерщинникам подставлять тоже не стоит. Так же как и Никитосу — мягко, интеллигентно внушать, что зубы нужно чистить так, чтобы вчерашняя рыба, тушенная с чесноком, сегодня не отпугивала от него девочек в классе, и что штаны каждый раз после туалета нужно застегивать, — бесполезно. Грубый хамоватый Никитос, возможно, когда-нибудь и превратится в того самого мачо, которого я так и не встретила. Но если его не останавливать, решительно и жестко, он может вырасти не в мачо, а в полного урода, который будет ходить в спущенных штанах, разговаривать матом, курить мне в лицо и обижать девочек. Никитос слышит только строгий холодный голос. Реагирует на небольные подзатыльники. Чувствует жесткую логику и ей подчиняется. Восхищается остроумными шутками и от них тает, розовеет, лезет целоваться, неловко, сбивая меня с ног. Маленький девятилетний Никитос обладает удивительной энергией и силой. И ему должны противостоять не меньшая позитивная энергия и разумная сила.
Так, значит, работа должна быть рядом с домом. Вариантов не очень много. Рядом у меня окружное телевидение и известная радиоволна. Но я даже пытаться туда не буду. И не потому, что не попаду. Не попаду — это одно. Место скромного редактора может и оказаться свободным. Одни девочки уходят в декрет, другие иногда хотят на пенсию. Я вдруг поняла — там работа будет очень похожа на то, что я делаю сейчас. А я хочу чего-то яркого, сложного, может быть, нервного. Я хочу быть немножко главной, очень нужной, в чем-то незаменимой. И я хочу отдыхать хотя бы два месяца — опять же для того, чтобы Настька оставалась моей и чтобы Никитос рос нормальным, без эксцессов и перекосов. И мне нужно быть дома во второй половине дня.
Круг поисков сузился. Дом культуры и… школа. В Доме культуры я несколько месяцев как-то работала, мне не понравилось. Одни прохлаждаются, пьют чай с утра до вечера. Другие — преподаватели, у которых кружки, — полновластные хозяева в своей епархии. Со всеми вытекающими. Власть над детьми, над родителями, особенно в хореографических коллективах, над старичками, трогательно пытающимися заполнить свой досуг песнями, шашками, веселым общением. Я лично прохлаждалась, думала о смысле, которого нет, о вечности, которая слишком близко — это в двадцать-то три года… Пила чай, болтала, болтала, смотрела в окно — на быстро облетающие листья, на первый снег, на бесконечный снег, на черный мартовский снег… Нет, в Дом культуры не пойду. Тогда что? Школа?
Когда я училась в Университете, самым страшным прогнозом для неуспевающих студентов было: «В школу пойдешь! Больше тебе ничего не светит!» И мы, будущие филологи, они же преподаватели русского и литературы, меньше всего видели себя учителями в школе. Занятие бездарное, неблагодарное, даже унизительное — так казалось мне по молодости. А сейчас? Как мне кажется сейчас? Сейчас меня, оказывается, не так уж и пугает школа. И это лучше, чем Дом культуры. Там — в моем случае — литературный кружок. Что-то необязательное. Ребенок пришел — не пришел, сильно для него ничего не изменится. Особенно не подуришь и не повластвуешь над маленькими наивно-тщеславными душами. Да я и, разумеется, не хочу.
Решено. Я иду работать в школу.
— С ума сошла! — сказал Андрюшка. — Ты — и школа? А впрочем, попробуй.
Мой брат всегда понимает меня, чтобы я ни делала. Ведь даже с Игоряшей мою позицию он понял.
— Убежишь через полгода.
— Не убегу.
— Тогда через два месяца. — Он поцеловал меня в макушку. — Дерзай. Ты засиделась дома. Купи себе два костюмчика или три. Деньги есть?
— Есть. И это не главное — я имею в виду костюмчики и платьишки.
— Ты удивительная девушка, Нюська. Женщины обычно сначала думают, в чем пойти, а потом уже куда.
— У тебя превратное представление о женщинах, Андрюша. Женщины бывают разные.
— Ага, зеленые и красные, — засмеялся Андрюшка. — Тебя уже взяли на работу?
— Нет еще. Но возьмут.
— Нюсенька, я боюсь за твои нервы, — простонал Игоряша, узнав о моем решении, шагнул ко мне, потеряв тапок, и попытался приобнять меня.
— И правильно, бойся, — убрала я его руку со своей талии. — Игоряша… Мы сейчас о деле разговариваем.
Все равно он не понимает, как подойти, чтобы даже нелюбимый мужчина на время стал мил.
— Я буду тебе помогать, морально, — робко улыбнулся нелюбимый мужчина и почесал руки. — Вот всегда ты так, отпихиваешь меня. А если я найду другую?
— Игоряша, я этого не переживу, ты же знаешь. Даже не пытайся.
— Хорошо! — Игоряша радостно посмотрел на меня, ища в моем лице капли симпатии.
Я скорчила ему рожу.
— Нюсечка, ты такая красавица…
Я махнула рукой. Бесполезно! От любви вылечивает… не знаю что. В Игоряшином случае, наверно, могила. Но пусть живет. Моим детям нужен живой отец, а не воспоминание.
Игоряша тем временем гладил меня по руке и смотрел с нежностью и тревогой:
— А что, ты теперь будешь финансово от меня совершенно независима? Ты для этого в школу идешь?
— Ну вроде того. И посмотрим, как там с физруками, может, кто и сгодится на что.
От моего грубого армейского юмора Игоряша раскраснелся и тут же прижал к себе Настьку, которая слушала весь разговор, делая вид, что именно сейчас ей нужно искать рядом с нами какой-то куклин сапожок.
— Мама хочет нас бросить, понимаешь, Настёныш!
— Ребенку хрень не говори. — Я поправила Настьке заколку. — Иди, спроси у Никитоса, сделал ли он математику, если нет — проверь и помоги. Хорошо?
— Хорошо, — кивнула Настька, глядя на Игоряшу. — Я сама ничего не поняла там…
— Вот вместе и разберитесь!
Мне показалось или нет, что Игоряша с Настькой моргнули друг другу, как старые добрые друзья? Вот только хорошо это или плохо? Хорошо.
— Я иду в школу, чтобы реализовать себя.