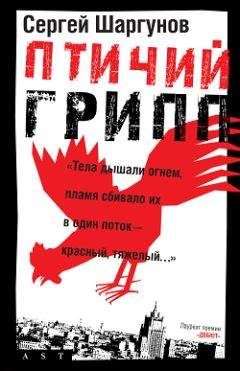– Надо бить! Больно бить! Нужна новая тактика, – говорил Иосиф.
Первая настоящая акция случилась в Большом театре в час премьеры колоссальной постановки, которая роскошью одеяний, раскатистыми басами и громом музыки символизировала возвращение в монархическую надежную гавань.
Ложи наполнились именитыми гостями, среди прочих по-свойски и деликатно улыбался тогдашний президент, как бы сообщая: я здесь главный, но это ведь такое дежурное дело быть главным, полно вам, оставьте почести… Занавес дрогнул, поплыла музыка, артист, игравший монарха, последний раз огладил драгоценную, колючую от стекляшек шапку, и вдруг…
На сцену с гиком ринулся отряд из зала! Вспыхнули факелы. Полетели листовки. Президент кокетливо отводил глаза, устало смеживал веки, морщил ноздрю. Ребят пинали, валили на пол, волочили по проходам. И хотя под деревянный стук, ропот публики, вскрики добиваемых президент набросил на лицо вуаль должностной скуки, жилка у его виска билась лихорадочно.
Голубая и злая!
Ребят лупили на допросах. На следующее утро Иосифа, выносившего ведро в мусоропровод, схватили на лестничной площадке. Ему драли волосы, душили ремнем от его же брюк, выбили клык.
Тем утром студент художественного училища, под побоями написавший на Иосифа показание, прыгнул из окна. Оставил записку: «Все отдаю партии» и нырнул. Но этот юноша не погиб, а, зацепившись за ветки дерева, повисел так немного под перебранку ворон-москвичек, свалился на снег и получил сотрясение мозга.
Иосиф не успокоился. С поредевшим хохолком и погнутым клювом он готовил новые акции.
Они начали шествия. У них чернели флаги. Они шли, не замолкая. Они шагали, топоча. Их стали блокировать, отлавливать на подступах, и, хотя они все же срастались в колонну, их оцеплял ОМОН и так держал под конвоем, ударяя или выхватывая кого-то…
Ершов, борода, голый череп, длиннополое серое пальто, похожее на шинель, выскакивал вперед, широко и бешено разевая пасть:
– Пусть моя кровь будет кровью партии, пусть моя плоть будет плотью…
Колонна повторяла монотонно.
Это была молитва. Утренняя. Черное знамя пропитывалось солнцем, встающим над Москвой. Мороз студил пену на оскаленных зубах. Они шли, зажатые конвоем, подхватывая крик, вскидывая кулаки.
Воронкевич созвал съезд. Был снят кинотеатр, куда поутру, хлюпая талым снежком, потянулись вереницы делегатов в черной коже с черными кожаными рюкзачками.
Иосиф возник на трибуне съезда и бодро, во всю силу легких, каркнул:
– Ура!
И предложил доктрину.
– «Снежинки ртом ловила, очень мило…» – Зал податливо смеялся. – Чего это? Снежинки, холод, сырость… Несчастная любовь, ангина… Зачем это? Зачем нам этот санный путь с однозвучным колокольчиком? Нам нужно четкое позитивное сознание!
В перерыве он вышел на ступеньки кинотеатра, олицетворяя позитив.
Сорокалетний уже мужик с морщинами у глаз, горькой складкой у губ, нервными стреляющими глазами.
Иосиф стоял, черная расстегнутая рубаха, черная распахнутая кожанка. Двумя руками он держал большой кусок черного хлеба с большим бело-розовым ломтем сала. Солнце полыхнуло у него в глазах. Он впился в бутерброд.
Подле Иосифа в этот момент стоял Степан и следил за ним с интересом. К Степе при том настойчиво прижималась журналистка Ирина Бойко, она обслуживала интернет-портал «Скандалы». Эта Ира была громадного роста, с широкой мужицкой спиной, синеглазая. Черные волосы блестели, стянутые на макушке. Губы она красила в кровавый цвет, веки – в голубой. И вот Ира налегая на Степана, вдруг баском стала сочинять ему в самое ухо, будто Иосиф у нее ночевал, пил с ней водку и свел ее с ума своим допотопным орудием…
Степан не выдержал откровений, повернулся к уплетавшему бутерброд Воронкевичу и спросил:
– Ирина хорошая?
Иосиф покосился на великаншу, качавшуюся в сапожищах. Без стеснения Ира завлекала его мглой ресниц, суровым синим взглядом. Шарами под блузой.
– Очень приятно. Рад знакомству… – интеллигентски скукоживаясь, прошамкал он бутербродом.
И взглянул исподлобья, как еврейский мальчик на казака-наездника, взмахнувшего нагайкой.
Ребята из регионов курили на ступеньках. Резкие, дикие, которые завтра сдохнут, а сегодня хотят алкоголя, порева, жрачки и лютой битвы. Партия дает им энергию, чтобы упорствовать и вырастать в кварталах бедноты.
– Мы ее заманили. Дрюха шило воткнул. Короче, час освежевывали. Мясо зажарили.
– Ну и?
– Жесткач. Кошкой воняет. Мочой. А шкуру я затарил…
Обсуждали охоту на лисицу. Говорил скуластенький невысокий пацан с прокуренным пороховым лицом и вялыми лепестками рта. Ему внимал тощий длинный весельчак, вдохновенно подпрыгивавший с ноги на ногу, вместо левого глаза у него краснела ямка.
– Степа! – обратился Иосиф ядовитым голосом.
– Да? – Неверов вздрогнул.
– Степа, а что ты делаешь у нас?
– У вас?
– Да, у нас – в НБП.
– Видите ли, – Неверов отвечал медленно: Вы – это партия войны. Вас осмеивают, считают полудурками, не берут в расчет, давят, но вы от этого только сильнее. И побеждаете. В сердцах тех побеждаете, кто не верит ни во что, потому что ждет настоящей веры. Эту веру вы даете. Знаете, почему нацболы мне интересны? Потому что – пообщаюсь, и вера пробуждается!
Воронкевич недоверчиво подмигнул.
Ира выплюнула сигарету. Вдруг она заговорила про то, как недавно ехала на частнике, а тот принял ее за переодетого мужчину.
– Парень, не пидарась! – наставлял ее водила.
– Да девушка я!
– Ты богатырь, а не девушка! Куришь-то зачем? Бросай это дело, милый. Нормальным становись. Косметику сотри, не срамись, – так поучал шофер.
В салоне его консервативно играло радио «Ретро».
Ребята загоготали на эту историю. Захихикал и Степан. Хохотнул Иосиф.
Их борьба продолжалась.
В регионах яйца летели в чиновников, раз за разом по двое-трое нацболов приковывали себя к дверям важных учреждений. В Москве случилось вовсе ЧП.
Пятнадцать человек (ровно – пятнадцать) пришли к Министерству чрезвычайных ситуаций. Они выглядели как инопланетяне. В старомодных противогазах с хоботками и шуршащих при каждом движении салатовых хламидах.
– Боевая тревога! – мычал пацаненок через маску. – Учения! Эвакуация!
– Санитарная служба! – плаксиво мычала под маской пацанка.
Вахтер ошалело запустил гостей, которые поднялись в кабинет министра чрезвычайных ситуаций. Сотрудники, побросав открытые кабинеты с включенными компьютерами (учения так учения), послушно столпились на улице перед дверями и чего-то ждали, задирая носы к летающим тополиным пушинкам.
Окно босса на втором этаже распахнулось. Не замечая зрителей, увлеченный бесконечным вальсом пушинок к невидимому за пеленой дня мерцанию созвездий, нащупывая глазами где-то совсем высоко нездешнего Хозяина, их босс, господин министр, высунулся по пояс. Его галстук завис.
– Громче! – раздался позади министра окрик.
Мужчина дернулся, точно его укололи в мягкое место, и закричал:
– Газ-нефть! Газ-нефть! Газ-нефть!
Ему шлепнули по затылку, он обернулся, переспросил и исправился:
– Да, смерть! Да, смерть! Да, смерть!
– Мы ненавидим правительство!
– Пытать и вешать! Вешать и пытать!
– Обыватель – козел!
И снова:
– Да, смерть!
Так он вскрикивал эти лозунги, министр с мужественным бойцовским сухофруктом физиономии под седеющим начесом волос. Рот, некогда вальяжный, разевывался широко… Иногда сухофрукт растерянно оборачивался, видимо переспрашивая какой-то особо чудной лозунг.
Но учился быстро, запоминал сразу, способный человек, не зря выбился в министры…
Над его головой мелькнул блестящий предмет.
Люди шарахнулись. Прямо им под ноги со звоном врезалась стеклянная доска. И раскололась. Это был портрет президента.
Иосифа посадили в Лефортово (распознав как вдохновителя). Ребят запихнули в Бутырку. Министр занемог и отъехал в ЦКБ (его начес был совершенно белым).
Перед тюрьмой ребят привезли в милицию. Там с ними говорил фээсбэшник, которого звали Ярослав. Ярик. Раньше он допрашивал в Чечне.
Всякий революционер чувствовал опустошающее бессилие, когда думал про этого Ярика. То был лютый палач наших дней, жил в Москве, кажется в центре, вроде любил гулять по бульварам. Имя «Ярик» ассоциировалось с древней княжеской Русью, с надменным властелином-однодневкой, который скачет по полю, копьем добивая раненых, и холодный туманно-голубой свет плещется в глазницах…
Фээсбэшник бил ребят. Бил одну ночь и день. Бил даже девушек. Одной пацанке сломал ключицу. «Меня били книгами», – сказал адвокату один пацаненок. Его Ярик ударял корешками старых толстых изданий, завалявшихся в библиотеке милиции. Была твердая, скользкая шафранная обложка «Былого и дум» (острый угол пропорол щеку), а еще бордовый трехтомник советских поэтов-шестидесятников.