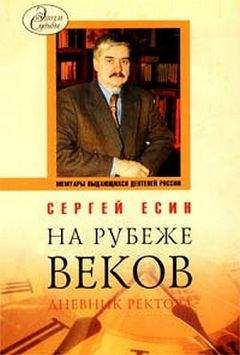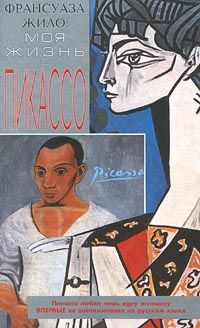Но здесь это не помогло. Мое «Что делаю?» и мгновенная реакция могли опрокинуть опытного противника, но дочь или не знала жалости, или не ведала любви ко мне, или была так наивна, что ответила:
– Ты выживаешь Славу, потому что он самый талантливый в твоей мастерской. Ты думаешь, что он талантливее тебя и что он настоящий художник.
И я поразился тогда бледности, которая покрыла вдруг лицо и шею моей дочери. Эта бледность, как мне казалось, не была спецификой волнения, а какой-то Славиной бледностью уверенной в себе правоты.
– Если Слава уйдет в мастерскую к Тарасову или Глазунову, я уйду вместе с ним, хотя ты и мой отец. Я ведь взрослый человек, папа, и могу таким образом выразить свое несогласие с отцом. Искусство ведь не семейное предприятие, правда, папа?
– Понимаешь ли, Маша… – начал я совершенно спокойно.
Впрочем, и весь разговор я провел спокойно. Не было ни громких слов, ни отцовских проклятий, ни криков, ни взаимных попреков. Я понял только одно: моя дочь знает, кто я такой. И возможно, это знает и Слава, но они, конечно, знают и то, чему я могу научить. В стране нет более верного взгляда и точной руки, и вряд ли они захотят потерять такого учителя. Но дочь мне дороже всего, потому что она феноменально талантлива. Наверное, больше, чем Слава. И она моя дочь. Это страховочный вариант судьбы. Если не получится у меня – должно получиться у нее. У нее есть фора – я. Потому что моим толкачем был только я, моя ловкость, моя двужильность. Я занимался искусством и одновременно был возле него, я думал о куске хлеба, а она пусть занимается только искусством, все остальное сделаю или я, или, если меня уже не будет, мое имя.
О, великая опытность! О, вечная моя привычка держать себя в узде! Я не вспылил, я спокойно продолжал:
– Понимаешь ли, Маша, применительно к вашему со Славой возрасту можно говорить только о способностях. Мне кажется, что то слово, которое ты употребила, выражает уже суть чего-то сделанного. И применительно к Славе мы будем говорить так, когда он что-то создаст. Пока он способный ученик, но он работает в моей мастерской и должен жить по ее законам. Я не могу создавать для него особую программу обучения. Если все играют гаммы в темпе адажио, то пусть в этом темпе – на первом, заметь, курсе – играет и он, хотя бог и наделил его беглостью пальцев. Вот эту мысль и постарайся до него довести. И на этом давай закончим разговор, потому что дальше начинаются самолюбия.
В полукруглые окна видно, как в конце аллеи, ведущей к станции, появилась черная точка. Для посетителя это еще рановато. По неискорененной привычке администратора я бросаю взгляд на каминные часы: постукивая вместо маятника бронзовой косой XVIII века, бронзовая смерть уже накосила половину десятого. Значит, появился на работе Славочка. Из нижнего цокольного этажа, из окна коридора возле реставрационной мастерской, забранного решеткой, сейчас неотступно глядит Юлия Борисовна. Взгляд у нее цепкий, дальнозоркий. Мне и смысла нет гадать, Славочка шагает от электрички или нет: первой оповестит о появлении своего любимца Юлия Борисовна. Она же сегодня, наверное, заведет разговор о том, чтобы разрешить реставратору приходить на работу к десяти. Но ответ мой тоже известен. Логика логикой, а порядок порядком. И воспитанная Юлия Борисовна уйдет от разговора. Славочка будет поступать по-своему, я буду нервировать его. Разыскивая его каждое утро, я никогда не осмелюсь, пересилив себя, сделать замечание. Маша? То ощущение безупречной своей правоты, которое распространяет вокруг себя мой ученик? Деликатность перед его обстоятельствами? Не знаю. Не могу, и все.
Наконец на селекторе загорелась лампочка вызова.
– Я слушаю вас, Юлия Борисовна.
– Я передала вашу просьбу Ростиславу Николаевичу…
В этот момент что-то вроде жалости шевельнулось у меня в душе. Бедный парень, ведь летел, наверное, на всех парусах. И все его понимают, ценят его самоотверженность, и лишь я свожу счеты с одаренностью, заставляю расплачиваться за собственную слабость. Как же он, должно быть, ненавидит меня.
Я на минуточку представил себе, как на другом конце города Слава поднимается по будильнику в половине шестого, если не в пять. Позже ему никак не успеть: больные ведь тоже поднимаются очень рано. Судно, белье, капризы. Дать поесть матери, поесть самому, прибрать в комнате, на кухне в их однокомнатной квартире на пятом этаже, сбегать в булочную и молочную – открываются в восемь, – и скорее, скорее в автобус. И так уже семь лет со дня поступления в институт. Образцовый единственный сын.
Маша пыталась меня разжалобить. Хотя, впрочем, вряд ли разжалобить. Мы оба с ней работали в домашней мастерской, в разных углах. Это еще было до того памятного обеда, но я уже приметил у нового студента эту удивительную бледность, когда делал ему замечания, уже приметил взгляд Маши, а потом ее отчужденное выражение и чуть поднятые от напряжения плечи – стеснялась меня, отца? – когда я подходил к мольберту Славика. А в тот день Маша говорила, говорила, и я еще подумал: «Как живо, как хорошо знает подробности, может быть, она уже побывала в этой однокомнатной квартире на пятом этаже в Отрадном? Задать бы ей этот вопрос. Может, отец и имеет право спросить?» Но жизнь меня научила: карты нельзя открывать никому, никогда. В этом я убеждался неоднократно. Я не задал и в тот раз неделикатных личных вопросов. Но разве я не имел права высказать свое мировоззренческое отношение?
И я высказал:
– Для художника слишком большое бремя – быть еще и хорошим сыном.
Я не предвидел реакции-перевертыша.
– Это относится и к дочери?
– Не играй словами. Я сказал то, что хотел сказать.
Как будто я ничего по существу в тот раз не сказал своей дочери. Я ответил ей не мыслью, а формулой, эдакой округленностью, имеющей лишь видимость глубокомыслия. Но я хорошо помню – как приличный человек, который ловит себя на постыдном желании украсть, – мгновенный инстинктивный взгляд, который я бросил на стену домашней мастерской. Они висели рядом, два портрета, на почетном месте уже много лет и никогда не сменялись другими полотнами, как бывает, когда примелькавшиеся пятна и лица вдруг надоедают. Это было непрерывным самоистязанием, но одновременно и ритуальным актом всех посетителей мастерской – дань постоянству в любви. Я хорошо помню, что бросил инстинктивный взгляд на портреты матери и первой жены. Разве их вживе я небестрепетно вышвырнул из своей жизни, когда, каждая в свое время, они стали мне мешать (надо говорить точнее, точно, точно!), стали мешать моей карьере. Мешать тому заложенному во мне, что могло реализоваться.
А, видите ли, Славочка ни через что переступить не может. Даже не хочет инсультную мать сдать в больницу для хроников. О, этот мальчик хочет все: быть и хорошим художником, и хорошим сыном, и верным возлюбленным. Миленький мальчик, ничем не хочет замутить своего душевного покоя. Он что, не понимает, что художник носит в душе ад? О, эти чистоплюи. Им что, привести исторические параллели, рассказать о той брани, которую Микеланджело выливал на головы своих товарищей-художников, напомнить, как Бенвенуто Челлини пырял инакомыслящих коллег по искусству ножом? Отстаивали себя и свою точку зрения.
Разве с тех пор что-нибудь поменялось в нашем специфическом мире? Впрочем, сейчас незачем пырять ножом. Бывает достаточно не купить картину. Какая бездна здесь приемов, как быстро и, главное, непредвзято все решается. Только летает по новичкам карандашик секретаря. «Мне кажется, правая фигура недостаточно прописана. Смотрите, рук нет – одни рукава пиджачка. А где под ними кости, мясо?» И все уже «видят», что никаких костей и мяса нет, и уже видят, что и в ногах-то костей нет. Найдется ли такой, кто твердо скажет: «Чушь! Это живой человек». Сознание скорее подсовывает недостатки. А вот проголосовали уже дружно – рассмотреть картину на следующем заседании закупочной комиссии, то есть через три месяца. Жарь, художник, в собственной мастерской на плитке ливерную колбасу по 64 коп. за кг. Вкусно получается, если со свежим лучком. Работай, надейся, жди следующего заседания.
Тебя еще не клюнул в задницу жареный петух, Славочка, чистый, пригожий ты мой мальчик. Художник – универсальная профессия. Он еще и интриган, и дипломат, и торговец. Даже Пушкин, мой милый, думал о суетном. Торговался с издателями. «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Художник – белый и серый ангел сразу. А ты хочешь прожить в крахмальной рубашечке, не склонивши выи? Ты даже меня, своего учителя, не хочешь попросить ни о чем. Все сам. Ну так барабань. Нервничай, торопись на автобус, стрессуй, нянчись со своей душой, со своей мамочкой, идеальный сын, а когда ты будешь писать свои гениальные картины? Погоди, милок, мы тебе подвалим работки в музее, мы тебе подвалим забот.

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)