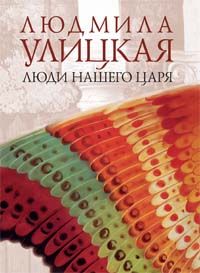Женевьев перелистала ноты, и Иветт заиграла какое-то баховское переложение для детей так тщательно и строго, так чисто и с таким чувством, что Бах остался бы доволен. Эйлин поглаживала по спинке малыша и покачивала его на колене. Мужчины попивали кальвадос, выражая знаки одобрения друг другу, музыкантам и напитку. Мари тихо радовалась скромным успехам дочки, но еще больше радовалась Женевьев:
– Мы начали заниматься прошлым летом, от случая к случаю, и видишь, какие успехи!
– Да, Женевьев, это потрясающе.
Потом Женевьев села за пианино, а Иветт встала за ее спиной,- переворачивать ноты. Играла она какую-то жалостную пьесу. Мне показалось, Шуберта.
Марсель тем временем достал футляр, лежавший за одним из многочисленных столиков, и вынул кларнет.
– Нет, нет, мы так давно не играли,- замахала руками Женевьев, но Иветт сказала:
– Пожалуйста, я тебя очень прошу…
Женевьев подчинилась нежной просьбе. Господи, да они обожают друг друга, эта девочка и независимая, пытавшаяся удалиться от людей Женевьев, вот в чем дело!- догадалась я наконец.
Был вытащен пюпитр, задвинутый за один из столиков. Марсель протер тряпочкой инструмент, прочистил ему горло, издав несколько хромых звуков. Иветт уже перебирала ноты на этажерке - она знала, что искать. Вытащила какие-то желтые листы:
– Ну, пожалуйста…
Аньес, болтавшая всю дорогу от Экс-ан-Прованс, молчала с того момента, как мы вошли в дом. Когда Марсель взялся за инструмент, она произнесла первые слова за весь вечер:
– Я думала, ты уже не балуешься кларнетом.
– Очень редко! Очень редко!- как будто оправдывался Марсель.
– Нет, Аньес, как бы мы ни хотели, ничего не меняется. Марсель все еще играет на кларнете,- многозначительно заметила Женевьев.
Эйлин переложила малыша: теперь она прижала его спинкой к своей груди, уложив головку в шелковом распадке.
Они начали играть, и сразу же сбились, и начали снова. Это была старинная музыка, какая-то пастораль восемнадцатого века, кларнет звучал неуверенно, и поначалу Женевьев забивала его, но потом голос кларнета окреп, и к концу пьесы они пришли дружно и согласованно. Это была самодельная музыка, но она была живая, и обладала каким-то особым качеством, какого никогда не бывает у настоящей, сделанной профессионалами. В ней звучал тот трепетный гам, который слышишь всегда, проходя по коридору музыкальной школы, но никогда - на бархатном сидении в консерватории.
Мари хотела взять из рук Эйлин ребенка, но та покачала головой. И неожиданно для всех встала, прижимая к себе Шарля, и запела. И как только она запела, я ее сразу узнала: это была знаменитая певица из Америки, исполнительница спиричуэлз. Она тоже была участница этого фестиваля, на который я приехала во второй раз, и ее портрет был отпечатан в программке. У нее был огромный низкий голос, богатый звериными оттенками, но при этом в нем была такая интимность и интонация личного разговора, что дух домашнего концерта не разрушался. Потолочные своды, неизвестно для чего устроенные в этом помещении, имевшем в прежней жизни какое-то специальное и загадочное назначение, принимали в себя ее голос и отдавали обратно еще более мощным и широким. Ее большое тело в водопаде шелковой материи двигалось и раскачивалось, и раскачивались огромные цветы, и ее руки с безумными ногтями, и красный рот с глубокой розовой изнанкой в окантовке белых зубов, и Шарль, которого она прижимала к груди, тоже раскачивался вместе с ней. Он проснулся и выглядел счастливым на волнующемся корабле черного тела в малиновых маках и белых лилиях…
«Amusant grace» она пела, и эта самая милость сходила на всех, и даже свечи стали гореть ярче, а Жан-Пьер обнял за плечи Мари, и сразу стало видно, что она молодая, а он старый… Эйлин колыхалась, и тряпичные руки и ноги мальчика тоже слегка колыхались, но голова его удобно покоилась в углублении между гигантскими грудями. Иветт, сидя у Женевьев на коленях, подрыгивала тощими ногами в такт, а Аньес, уменьшившись от присутствия Эйлин до совершенно нормальных размеров, уложила свои свисающие щеки на руки и лила атеистические слезы на этот старомодный американский псалом. Эйлин закончила пение, покружила малыша вокруг себя, и все увидели, что он улыбается. И она опять запела,- «When the Saints go marching in…», и святые должны были бы быть беспросветно глухими, если бы не поспешили сюда,- так громко она их призывала.
В общем, несмотря на совершенно неподходящее время года, происходило Рождество, которое случайно началось от смешной детской песенки Иветт. Эйлин кончила петь, и все услышали стук в дверь, которого раньше не могли расслышать из-за огромности ее пения.
– Войдите.
Такое бывает только в сказке - можно было бы сказать. Но я-то знаю, что такого не бывает в сказках - только в жизни. На пороге стоял сосед-пастух. Он был в серой суконной куртке, из ворота клетчатой рубахи торчала загорелая морщинистая шея, а на руках он держал не новорожденного, а довольно большого уже ягненка.
– О, L'agneau!- сказала Иветт.- L'agneau!
Пастух жмурился от яркого света.
– Простите, я вас побеспокоил, мадам Бернар. У вас гости… Я два дня искал ягненка, а он упал, когда я гнал стадо возле ручья. Сломал ногу, и я вот только что нашел его. Лубок я ему уже наложил, но у него воспаление легких, он еле дышит, я пришел спросить, нет ли у вас антибиотика.
Ягненок был белый и почти плюшевый, но настоящий. К одной ноге была прибинтована щепка, мордочка и внутренность ушей была розовой, а глаза отливали зеленым виноградом.
– О, l’agneau!- все твердила Иветт, и она уже стояла рядом с пастухом, смотрела на него умоляюще,- ей хотелось потрогать ягненка.
– О боже!- расстроилась Женевьев.- Я не принимаю антибиотики. У меня ничего такого нет…
– У меня есть! Есть!- вскочила Мари и побежала в соседний дом. Ее муж последовал за ней. Иветт, приподнявшись на цыпочки и переминаясь с ноги на ногу, гладила волнистую шерсть. Пастух стоял, как чурбан, не двигаясь с места.
– Вы присядьте, брат Марк,- предложила Женевьев, но он только покачал головой.
Эйлин поднесла Шарля к ягненку, повторила вслед за девочкой:
– L'agneau! L'agneau!
– L'agneau,- сказал малыш.
Женевьев зажала себе рот рукой.
– L'agneau,- еще раз сказал малыш, и сестра услышала. Замерла,- и тут же завопила:
– Женевьев! Мама! Женевьев! Он сказал «ягненок»!
Вошла Мари с коробочкой в руке.
– Мама! Шарль сказал «ягненок»!
– L'agneau!- повторил малыш.
– Заговорил! Малыш сказал первое слово!- торжественно провозгласил Марсель. Аньес плакала новыми слезами, не успев осушить тех, музыкальных.
Эйлин передала малыша на руки матери…
Я тихо открыла дверь и вышла. Я ожидала, что все будет бело, что холодный воздух обожжет лицо, и снег заскрипит под ногами. Но ничего этого не было. Осенняя ночь в горах, высокое южное небо. Густые травные запахи. Теплый ветер с морским привкусом. Преувеличенные звезды.
И вдруг одна, большая, как яблоко, прочертила все небо из края в край сверкающим росчерком и упала за шиворот горизонта.
Происходило Рождество,- я в этом ни минуты не сомневалась: странное, смещенное, разбитое на отдельные куски, но все необходимые элементы присутствовали: младенец, Мария и ее старый муж, пастух, эта негритянская колдунья с ногтями жрицы Вуду, со своим божественным голосом, присутствовал агнец, и звезда подала знак…
Рано утром Марсель отвез Эйлин на выступление. Аньес, старинная подруга Женевьев, спала в верхней комнате, а мы с Женевьев пили липовый чай с медом. Цвет липы Женевьев собирала в июне, и мед был тоже свой, из горных трав. Мы обсуждали вчерашнее событие. Я пыталась сказать ей, что мы как будто пережили Рождество, что вчерашний вечер содержал в себе все атрибуты Рождества, кроме осла…
– Да, да,- кивала Женевьев,- ты совершенно права, Женя. Но осел тоже был. Знаешь, в этом доме жила когда-то одна старуха. Она была героическая старуха, жила одна, была хромая, ездила на мотоцикле. Всей скотины был у нее один осел. Потом старуха умерла, приехал из Парижа ее сын, провел здесь отпуск, а перед отъездом хотел отвести осла к брату Марку, но осел не пошел - хоть убей. Упрямое животное, как и полагается. Тогда уговорились, что брат Марк будет носить ему сено и оставлять воду. И осел прожил зиму один. Летом приезжал сын старухи, и опять осел не пошел к брату Марку, и еще одну зиму прожил один. Три года жил осел. Потом умер от старости. Сарайчик его и сейчас стоит. Дом этот все местные жители так и звали: дом Осла.
В сущности, никакого чуда не произошло. Шарль действительно заговорил. Поздно, в три года, когда уже и ждать перестали. Потом он научился говорить еще довольно много слов. Но ни руки, ни ноги… Заболевание это вообще не лечится. Малыш был обречен. Да и ягненок со сломанной ногой тоже не выжил, умер на следующий день, и антибиотик не помог. Но если не чудо, то ведь что-то произошло в ту осеннюю ночь. Что-то же произошло?