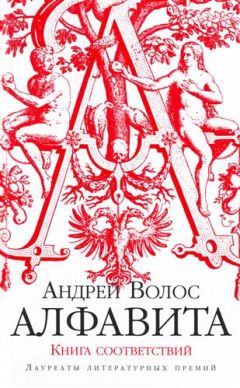Мы расстались недовольные друг другом, и, трясясь затем автобусом по дороге в Михайловское, я никак не мог окончить наш нелепый спор.
Утро было волглым, неясным. Я рассеянно смотрел на мелькающие за окном зеленые, подернутые туманом перелески, выглядевшие акварельными набросками. Между прочим, приходил мне в голову очередной аргумент: основатель знаменитого русского рода и прадед А.
С. Пушкина был негром! Негром, да! Причем негром из самого сердца Африки, как ныне вроде бы доказано, из Камеруна. Негром такого замеса, рядом с которым бледнеет сапожная вакса. И что же, Пушкин — не русский?!
То есть понимаете, продолжал я свою мысль (попутчик, похоже, наконец-то начал склоняться к тому, чтобы хотя бы выслушать меня толком). Понимаете, вопросы русскости никогда не решались и не могут решаться в России на основании анализа крови. И впрямь, ну какое значение имеет кровь и родословная в стране, где ордынец основывает Ипатьевский монастырь, становящийся колыбелью трехсотлетней монархии? Дед одного гения — негр, другого — шотландец. Мать Петра Андреевича Вяземского носила ирландскую фамилию О'Рэйли. В прозвании рода четвертого, Петра Яковлевича Чаадаева, отчетливо звучит тюркское династийное слово «чагатай». Мать Жуковского — пленная турчанка. Кюхельбекер, в конце концов. Мандельштам. Далее — везде. А?
Я мысленно толковал своему призрачному железнодорожному попутчику, с которым уж давно разошлись наши пути, что русскость — как вино (см.). Будучи запертым в бутыли, оно не способно порадовать; зато откупоренное, чтобы поделиться с собратом, пьянит осознанием общности и равенства перед лицом жизни и вечности.
Сам русский язык (см.) доказывает это! — жарко говорил я ему, столь преждевременно и напрасно растворившемуся в вокзальной толпе.
Родившись из невнятных лепетаний, вобрав в себя увертливую речь степи и жесткие формулы германских наречий, не отказавшись ни от одного из их завоеваний, но естественно перекроив добычу на свой салтык, он стал тем, чем является ныне, — мощным и точным инструментом, равно способным трактовать как грубые сущностные вопросы жизни, так и самые тонкие повороты человеческого сознания!
В конце концов мне удалось его убедить. Он согласился, что судьба России (а может быть, и ее цель) — впитывать в себя тех малых, что теснятся вокруг нее когда в надежде помощи и добра, когда в бессмысленной злобе и яростном стремлении к обособленности. Чем с большей щедростью растрачивает себя Россия, тем больше в ней русского; чем с более глубоким пониманием братства всего человечества обращается Россия к миру, тем с большим уважением и преданностью мир смотрит на нее.
Он уже не спорил с тем, что русский путь — это путь света, равно дарящегося всем языкам и странам. И что вовсе не напряженная обособленность ради сохранения русскости является целью русских; напротив — открытое распространение русскости на других.
Когда я заявил, что русская мечта — увидеть Россию всемирную, Россию всечеловеческую, истинный храм добра и братства, в котором на самом деле нет ни эллина, ни иудея, он окончательно понурился, а мне удалось перевести дух.
Автобус взобрался на горку, миновал синий дорожный знак с надписью «Пушкинские горы» и весело подкатил к остановке.
Мы наконец-то простились, и попутчик, согласно кивая, навсегда растворился во влажном воздухе.
Я сошел на асфальт — и увидел трех таджиков (см.) в синих комбинезонах и оранжевых жилетах дорожных рабочих. У одного в руках была лопата, у двух других — ломы. Негромко галдя, они споро поправляли бордюрный камень.
Издалека на них доброжелательно посматривал курчавый Пушкин.
Один крупный сибирский бизнесмен решил баллотироваться в губернаторы одной сибирской области.
Для начала узнал, что почем, и нанял команду политтехнологов.
Политтехнологи сказали:
— Нужно отрабатывать имидж.
Бизнесмен был человек подвижный, не толстый, любил, бывало, и по озеру Байкал под парусом погонять, поэтому имидж решили отрабатывать в спортивной сфере.
Политтехнологи придумали несколько дурацких лозунгов, а также действо, которое должно было стать главным элементом избирательной программы: футбольный матч молодежных команд на Северном полюсе.
Жутко эффектная вещь.
Делать нечего. Бизнесмен нанял пару больших вертолетов, собрал друзей-приятелей из тех, кто не прочь был прошвырнуться, запаслись всем необходимым — и полетели.
Северный полюс, как известно, обозначен только на картах. А так — льдина и льдина. Время было летнее, солнце палит, температура — 14 градусов ниже нуля по Цельсию.
Летчики из вертолетов не выходили, так их сквозь стекла так нажарило, что они до трусов разделись.
А остальные по-быстрому раскинули армейскую штабную палаточку, столы расставили, официанточки (взяли пару миленьких) набросали всякого-разного. Потом спортсмены повязали друг друга поверх свитеров нагрудниками с синими и красными номерами. Поле кое-как разметили. Ну и началось: камеры снимают, мяч летает, молодняк носится, судья свистит. Безветрие. Да и в палатку регулярно заглядывают — там только звон стоит да девчонки попискивают.
Поснимали свитера, потом и рубашки. Пар идет!
И в это время слышится дальний рев моторов… скрежет льда под полозьями… и вот из-за торосов выезжает вереница мотонарт.
Это были норвежцы — суровые люди с угрюмыми обветренными лицами, закутанные в меха и синтепон.
Они ехали на подвиг — на покорение Северного полюса.
Они выехали из-за торосов — и увидели эту картину.
Пьяненький судья, как на грех, свистнул невпопад.
Слова бессильны.
Воображайте сами.
В 1969 году в Ташкенте случились антирусские выступления.
Началось на стадионе, когда ташкентский «Пахтакор» не то выиграл у «Спартака», не то проиграл.
Теперь-то я понимаю, что и то и другое одинаково могло явиться поводом для антирусских выступлений. Более того: теперь я понимаю, что все может быть поводом ко всему, поскольку сравнительный анализ разных национальностей (см. Национальность) с целью указать на лучшие среди них страшно увлекает простые умы, заставляя их кипеть и волноваться. Мысль же о том, что национальный вопрос — это вообще такой вопрос, по которому что ни скажи, все глупость, не кажется им, простым умам, хоть сколько-нибудь интересной. Простым умам свойствен провинциализм сознания, который проявляется в бессознательной уверенности в том, что лучше всего быть русским (узбеком, татарином, евреем, казахом и проч. — в зависимости от национальности субъекта), а жить — в Подольске, Чирчике, Бугульме, Хайфе, Алма-Ате и т. д., то есть именно там, где субъект ныне и проживает. Это искореняется только сильнодействующими средствами типа кругосветных путешествий или неоднократных эмиграций.
Со стадиона двинулись громить все подряд. На третий день, как водится, появились войска. В Душанбе доходили смутные слухи, их с восторгом обсуждали: «Из Москвы! Конная милиция! Как дали по башке!.. Это тебе не с нашими ментами базарить! У наших-то в кобуре вместо пистолета кусок лепешки!..»
Потом, по слухам, уже в таджикском городке Орджоникидзеабаде на первомайской демонстрации (см. Богачи) погиб польский корреспондент — ему и впрямь дали по башке его собственным фотоаппаратом…
Недели через две я возвращался из сада (см. Вино), шел по дамбе канала. Солнце садилось, далеко впереди в дымке вечера выжженные холмы перетекали в сиреневые вершины, над кишлаком Обигуль наклонными столбами уходили в розовое небо сизые дымы. Я шел по дамбе, по дамбе же, нагоняя меня, ехал трактор с прицепом. В прицепе тряслись кишлачные парни — должно быть, возвращались с работы.
Завидев меня, они принялись орать то, что принято было орать в таких случаях. Вообще-то обстановка на национальном фронте была мирной, но если случалось таджику (см.) и русскому (см.) повздорить, то русский таджика тут же награждал «зверком», а таджик русского — «пилядью».
Кстати, насчет «зверков» существует столь же правдивая, сколь и анекдотичная история. Раздается звонок в Душанбинском институте сейсмологии. Секретарь берет трубку:
— Алло!
— Это Институт сейсмологии?
— Да.
— Здравствуйте. Это из зоопарка звонят… Моя фамилия Шакиров.
Скажите, ваши сотрудники могут прочитать лекцию о землетрясениях?
С хмыканьем:
— Что ж мы, зверям, что ли, читать будем?
Пауза. Потом обиженно:
— Почему зверям? У нас и русские есть!..
Я от греха подальше сбежал с дамбы и пошел низом, вдоль хлопкового поля.
Не думаю, что им хотелось меня убить. Убивать меня хотели в другой раз, когда мы с Лукичом и Федулом спустились к дороге на двадцатом километре Варзобского шоссе. Тоже был вечер, тянуло холодом от реки, горы синели, небо в зените было черным, и мы устали как черти, целый день протаскавшись по осыпям за тюльпанами. Река ровно шумела. Из придорожного ресторанчика доносилась музыка и таджикская песня.