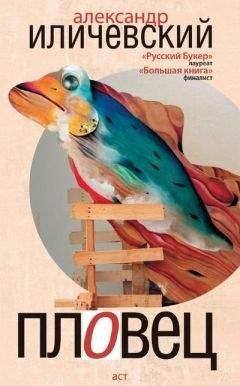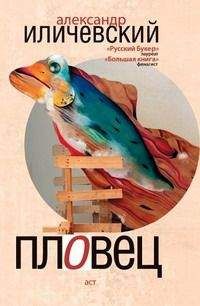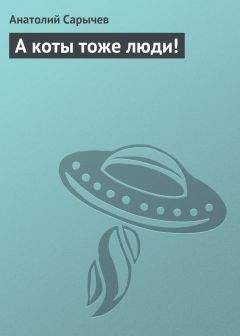Заплываю с мостика. Слежу по сторонам, чтоб шланг ни за что не сорвать. Опускаюсь дальше, шарю отсеками к кубрику — жутко: подлодка эта — чистый Голландец летучий: черепа врассыпную, ребра — на ощупь, как пенопласт: крошатся. В кубрике — посуда бросовая, консервные банки, шоколадная фольга повсюду, там и сям висят фигуры шахматные; кости уложены на койках в одежде, понавалены матрацы… Вдруг, когда дверцу потянул на себя, прижался мне теченьем к маске листок… Гляжу — фотокарточка: краля белобрысая в пеньюаре, ножка на ножку — откинувшись, тянет папироску в длиннющем мундштуке…
Вспарываю один матрас — так и есть. Обвязываю проволокой штуки четыре — и тут вдруг пропикало: смотрю — давление в баллонах упало; а почему неизвестно.
Я — наружу. Всплываю медленно-нежно, будто мину с растяжки вытягиваю. Но уже задыхаюсь: дышу часто, как после забега, пузыри кругом кипят, ничего не видать — а толку чуть: будто пустотой дышу, что ли.
Спасибо, Йоргас меня наверху на лодке встретил — помог откачаться…
Три дня я нырял за матрасами как угорелый: себя забыл, не то — остальное прошлое.
Я доставал их, как сокровища, больше — как самую бесценность — жизнь. Все на лодке обшарил, все достал.
В день последний Йоргас добыл где-то фелуку на дизеле: привел в бухту. На закате выпотрошили мы все матрасы в громадный жестяной контейнер из-под кофе, все — до единого волоска.
Как радужный свет ссыпались волосы, вспыхивали от заходящего сильного солнца, унося его в глубокую темень.
Контейнер мы свезли в город к причалу и поместили на грузовик. Ночевал я в кабине — сторожил.
На утро прибыли мы на почту и оформили посылку — недалеко, миль за триста к юго-востоку — в Иерусалим, в городской раввинат. Я быстро черкнул сопроводительное письмо без подписи, где разъяснил — что к чему: мол, надо, чтоб груз этот был похоронен там, где следует.
Отправили, уплатили спецдоставку и вернулись в нашу кофейню помянуть.
Заказали — как полагается. Приняли. Вдруг у Йоргаса — бац: глаза на мокром месте. Я ему: не плачьте, пожалуйста, все в порядке будет, они теперь свет увидят…
А он — ни в какую: я, говорит, сколько живу — все понять не могу, что это было.
Хозяин кофейни к разговору нашему прислушался, подходит: вы, парни, чего здесь такое затеваете?
Ну, мы его усадили, налили…
Дальше — час сидим чин-чинарем, два сидим…
Только через некоторое время разнервничался я что-то. Вскочил, бегаю меж столиков, кипешусь почем зря… Кричу Йоргасу:
— Не могу я так больше, что хотите со мной творите — не могу. Надо, говорю, взорвать ее к такой-то фене, чтоб пыли от нее не осталось.
Старик молчит: мол, как знаешь…
И тут кофейщик мне:
— Что, сынок, динамиту надобно? Так что ты так нервничаешь? Сядь — выпей спокойно, а я тебе расскажу по порядку…
Ну, слово за слово, выясняется: пластид есть, только дорого. Хотя и скидка большая — со стороны кофейщика за посредство вообще нуль. И ничего тут не поделаешь — такова природа этого матерьяла.
Денег моих личных, остававшихся, точно бы не хватило. Но тут как раз перевод на Порос подоспел. Его-то я и оприходовал насчет пластида. Решил — потом просто не буду в счет зарплаты проценты вычитать, задарма работать стану, рабом на ихние галеры пойду — только бы подорвать эту лодку, чтоб ни атома от нее не осталось.
К тому же привык я, что без контроля внешнего живу — кум королю, что называется: миллионы через меня проходят — и хоть бы хны: доверяют, значит. Ну и нынче поверят, ежели только спросят, конечно. До сих пор не спрашивали — а сейчас-то им что приспичит?..
Чтоб поскорей с фашистами расквитаться — сразу на Порос не вылетел: решил подождать неделю, а деньги, помня, что рылся весной у меня кто-то, закатал в целлофан и на берегу той бухты заветной спрятал: почти в точности там, где гардероб костюму своему водолазному устроил, чуть в сторонке.
Девять дней я обкладывал пластидом лодку изнутри и снаружи, баллонов опорожнил несметно — Йоргас, спасибо, сам возил их на заправку.
Потом еще целый день монтировал взрыватели в цепь, шнур вел на берег. Довел все же.
Сели мы тут же с Йоргасом, хлебнули как следует вонючего арака и — подождали глоток за глотком, покуда стемнеет погуще: фейерверк в темноте полной — он красочный самый.
Луна как взошла — мы в лодку сели. Свели ладони — и вместе нажали.
Осечки не случилось. Рвануло так, что скалы зашевелились. Под водой — будто солнце лопнуло.
Я дернул стартер и, обогнув рвущийся фонтаном холм взрыва, мы ретировались в город.
Там еще на причале хлебнули немного — и разошлись.
Вот уже самый конец — и еще немного. Возвращаюсь домой, захожу в контору. Еще светом щелкнуть не успел, а меня тут по шее — хвать: и я в отключке.
Очухиваюсь в странном вполне положении: вишу я у окна в петле за ноги, а за стойкой моей конторской стоят Барсук с Молчуном — кверху ногами — и что-то разливают друг другу в рюмочки.
Я их — перевернутых — не сразу-то и узнал. Петля у меня в ногах крепкая — ступни затекли, а в голове темно — хуже некуда: кровь набежала, как при погружении.
Пригляделся еще — сверху веревка идет какая-то и к батарее струной подвязана. По всему, думаю, они меня наподобие лебедки за карниз подтянули.
Тем временем Барсук увидал, что клиент очнулся, глотнул рюмку и ко мне: так, мол, и так, где, сука, деньги?
А я — все как есть начистоту: мол, простите дяденьки, истратился по делу, но денег большинство — там-то и там-то: спрятал в камнях в бухте такой-то.
Барсук:
— Ладно, ты повиси еще немножко, — и кляп мне мастерит, чуть не задушил, собака.
Молчун со мной остался — одну за одной хлещет, а на оклик ни слова сказать не хочет.
Когда Барсук вернулся, во мне только полдыха осталось. Голова ртутью налилась — хоть отрывай, кровь из носа хлещет, и вроде как совсем дохну.
— Ты чего, — говорит Барсук, — нас разводишь, как маленьких? Там менты по всему берегу шарят — отлить нельзя, не то — подойти поближе.
А я мычу еле-еле: хотите верьте, хотите нет, но сказал правду — достанем завтра деньги.
Не поверили, видно.
Морочить меня стали: Барсук по почкам, Молчун — селезенку да ребра охаживает. Лупят, как грушу. Барсук подпрыгивает, Молчун — стоймя мочит.
А я и так — без битья — уже помираю.
В общем, не стерпел я. Думаю: еще убьют — чего ради?
Короче, дотянулся я до бутылки — хорошо, пока крепили, с подоконника ее не свалили — чудом, — да как вдарю Барсуку по темечку навскидку.
Тот рухнул сразу — как статуя подорванная.
Полоснул я лепестком по веревке: да так и свалился.
Очнулся, когда Молчун меня водкой брызгал. Чую на губах, что — водкой, а вокруг почему-то винищем воняет…
Ну мне и полегчало от такой заботы, однако — не совсем: смотреть и шевельнуться могу кое-как, а говорить — как под плитой на губах могильной — невозможно.
А Молчун тем временем спрашивает меня с корточек:
— Так где же деньги?
А я смотрю на Барсука: лежит — не дышит, башка его плешивая вся от крови и винища мокрая — и очки заляпаны подтеком…
Мне жутко стало. Говорю я Молчуну:
— Помогите товарищу.
— Ничего, одним меньше в наших планах, — отвечает Молчун, и мерещится вдруг, что мигает он мне.
И тут я совсем уж взбеленился. Не привык я ожидать от себя такого, хотя точно знаю: если припрет под яблочко, страшен я становлюсь, как ангел-хранитель. Хватанул я тогда «розочку» от бутылки своей бесценной — и молча пыром Молчуну в брюхо накрепко вставил. И еще завел по часовой на четверть, для верности.
Тот аж охнул — не ожидал, видимо.
Короче, отвалился он, и тут я сознание и потерял — теперь окончательно.
Надо сказать, я долго к себе возвращался. И мучительно очень. Особенно неотвязным был один сон-испытание, ужасный коварностью, но все же облегченный некоторой иронией: смех вообще, я заметил из жизни, смежен, по милости Божьей, страху. Снилось мне следующее. Я бегу-ползу по термитнику переулков, а за мной медленно мчится Молчун на карачках — башкой мотает, мычит, рычит, быкует, коленками пыль роет — наподобие минотавра. Или — как перед корридой спущенный в забег по городу бычара. Причем вместо рогов у него — полумесяц на темени, и холод от него я чую жутко, будто яйцами ятагана близость. И вот — очень странно — как я спасался всякий раз от такой напасти. Ползу в изнеможении — и вдруг, опостылев себе за выделение страха, ложусь на спину, в зенит смотрю через узкий створ карнизов — и плевать мне на все. Лежу — синевой упиваюсь, солнце на переносице, как тюлень разнеженный мячик, перекатываю. И вдруг меня осеняет. Вскакиваю пружиной, подлетаю в верхотуру над клубком переулков, сграбастываю солнце в руку и, снизившись в пике, чуть отпустив шарик от себя по лету, гашу его со всей дури Молчуну в темя, как над сеткой волейбольной. Ну понятно, рогатый полумесяц в пух и прах, а от Молчуна — кучка пепла серебристо-лунного…