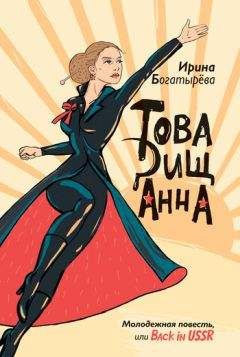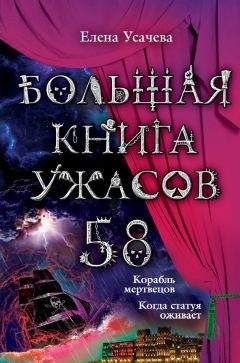В бильярдной никто не играл. Только за одним столом бесцельно гонял шары чей-то пацаненок. Мужиков было немного, они толпились у телевизора и обсуждали что-то. В телевизоре было «Лебединое озеро»: белые люди на черном фоне двигались неестественно, ломано, но на них все равно никто не смотрел, да и звука по-прежнему не было, хотя теперь он никому бы не помешал.
У стойки папа потребовал телефон.
– А не работает, – равнодушно сказала Светочка, не переставая жевать. – С базы звоните.
– С чего не работает? Мне срочно надо.
– Я почем знаю? Не работает, и все. Вчера гроза была? – сказала Светочка вопросительно.
– Была? – не понял папа. Сам он уже не помнил, была ли вчера гроза.
– Ну вот и не работает, – сказала Светочка.
Папа готов был закричать, но почувствовал, что это бесполезно, издал только задавленный звук и ушел из бильярдной. Он не отреагировал на приятеля, который его окликнул от телевизора, и не видел, что все мужики, отвлекшись от экрана, внимательно слушали их со Светочкой бестолковый разговор.
И конечно, папа не знал, как подействовало его отчаяние на этих мужиков, как передалось его настроение, будто поветрие, как все они вдруг почувствовали, что с острова этого срочно надо линять. И задвигались, и задергались, и стали по одному уходить, и скоро уже не было никого в бильярдной, кроме Светочки, а на вечернем пароходике многие уехали в Казань.
– Ну что? – спросила дома Ида, глядя на папу блестящими глазами. – Не приехала, да?
– Подожди, еще приедет. Приедет еще, рано. Ты чай пила? Пей.
Но жена не приехала вечерним пароходом, не приехала и на утреннем. Папа несколько раз сумел пробиться к телефону и позвонить, но дома никто не брал трубку. Папа не знал, что у жены еще в середине недели заболела мать и она уехала к ней в деревню, в соседнюю область. Не знал, потому что жена передала это знакомой, которая должна была ехать на выходные на Бережок и могла сообщить об этом папе. Но у знакомой тоже что-то случилось, и она не поехала. Папа передумал кучу обидных мыслей о маме и бегал по базе в состоянии, близком к помешательству.
Больше всего его раздражало, что никто не собирался ему помогать. Если он заговаривал с кем-то о лекарствах, человек этот тут же переводил разговор на то, что интересовало всех, но совершенно не волновало сейчас папу. И папа вынужден был слушать, иногда даже отвечать, но смотрел он на всех пьяно, и глаза его говорили: «Оставьте, пустите меня! Какое мне дело сейчас до всего, разве вы не видите, что у меня? Какое же мне дело?..»
Папа уже знал, что в Москве танки на улице Горького и у Кремля, что люди строят там баррикады и, того гляди, вот-вот что-то начнется – все так говорили, но никто не знал, что конкретно. «У нас в стране всегда так, обязательно что-то будет», – говорили папе разные люди и шли с вещами на дебаркадер. Папа им ничего не отвечал. Как можно быть таким равнодушным, думали люди про папу, третий день небритого, третий день не спавшего, самого уже почти больного, маму уже почти проклявшего. А папа ничего не думал и бежал на базу искать медсестру.
В середине дня ему все-таки удалось встретить ее и привести к ним в домик.
Дебелая женщина с недовольным лицом, в белом халате (но только это говорило о том, что она врач, а не уборщица), смотрела поверх ложки к Идке в раскрытое горло.
– Гланды вырезаны? – спросила она папу.
– Нет.
– А стоило бы. Да уж теперь что, – сказала почти злобно, так что папа аж вздрогнул.
– Что это?
– Ангина, что, – ответила она. – Вот, – сказала, роясь в своей огромной черной сумочке, – пополо́щете три раза в день, – оставила на столе пачку фурацилина и направилась к выходу.
– Ну, а аспирин хотя б, – бросился за ней папа, понимая, что сейчас она уйдет и спасения им не наступит.
– Нету, – не оборачиваясь, бросила она.
– Как нету? А температура-то! Нельзя, что ли, достать?
– Мужчина, мы на острове! – сказала медсестра и даже обернулась. – Здесь ничего нельзя достать. А температуру сбивать не советую, тем более аспирином. Лучше компрессы делать холодные. Тело растирали? Водкой хорошо.
– Не пью, – ответил папа горестно.
– А жаль, – почему-то сказала врачиха и стала спускаться с крыльца.
– Так что, вы просто так вот уйдете?
– А что я сделаю, мужчина? И вообще, ехали бы вы, чего ждете-то? Полбазы уже уехали, а вы чего сидите? С ребенком еще больным. Скоро одни на острове вообще останетесь. Ведь мало ли что, как если начнется , – закончила она и гневной походкой отправилась в лес.
«Бабы, – думал папа с озлоблением, возвращаясь в домик. – Ничего не умеют! Даже ребенка лечить! И эта дура не едет!» – думал он о жене, испытывая уже жгучую ненависть, почти отвращение к женщинам. Смотрел на Идку и думал: неужели станет такая же? Будет краситься, сидеть на диетах, стрижки делать, висеть на телефоне, секретничать, сплетничать, скандалить, плакать ни от чего, ходить на каблуках… Неужели будет?..
– Мама приедет? – спросила Идка.
Он вздрогнул и ответил:
– Да, конечно, приедет.
Вечером температура усилилась, и папа начал делать компрессы. Налил воды в тазик, чуть отжал, положил мокрое полотенце на горячий лоб. Капли сползали по виску, затекали в уши, неприятно холодные, впитывались в подушку. Идка смотрела на него большими блестящими глазами, и папа разрывался, испытывая стыд, что сам он здоров, но ничего не может для нее сделать.
– Не приедет? – спросила Идка.
– Завтра, завтра, сказал же, приедет.
– А зачем ты ее сегодня ходил встречать? – спросила Идка, чуя обман.
Папа не отвечал, снова стал смачивать полотенце.
– Почитай лучше, – сказала Идка. – А что на улице? Ветер?
– Не знаю, может, дождь будет. Давай потом почитаю. Давай еще. И ручки давай, а?
– Нет, почитай пока. Зачем все время мочить? Вот как нагреется, тогда и мочи снова. – Она имела в виду полотенце. Папа подумал, что, если даже больной, даже с таким горячечным взглядом ребенок не теряет логики, не паникует, значит, ему-то подавно нельзя, и начал читать.
Одиссей возвращался в Итаку. Он отбивал у женихов Пенелопу. Героем он возвращал себе свой покинутый дом. Идка рада была, что все кончилось хорошо.
– А Итака – это остров, да?
– Остров.
– Как наш?
– Нет, больше.
– А Пенелопа царица же была, так почему она не могла женихов сама разогнать всех и одна править?
Женщина, хотел было сказать папа, но не сказал, подумав о жене, и снова злость нахлынула на него. Нет, надо ехать домой, нечего ее тут ждать, смысла нет ждать. Завтра же уедем.
– Давай смочу, нагрелось уже, – сказал папа, трогая полотенце.
– Нет, теперь давай песню.
– Давай потом. Не хочу я сейчас петь.
– Ты всегда говоришь потом. Теперь пой, ну!
Папа вздохнул, но деваться было некуда. Петь он любил, но все говорили ему, что у него нет слуха. Поэтому пел он только дочке, колыбельные, которые вовсе были не колыбельные, а одни и те же, его любимые песни, и вот эта, про буденновцев, полюбилась Идке больше всех. Папа запел, резко вдыхая в конце каждой строки, отчего они как бы вдруг подпрыгивали и зависали:
Там вдали за
рекой за
горались огни
в небе ясном
заря до
горала
сотня юных бой-цов
из буденновских войск
на разведку
в поля по
скакала…
Идка знала всю песню наизусть, знала каждый акцент, который сделает папа, мелодию, то ускоряющуюся, то замедляющуюся, в зависимости от того, что происходило в песне, и от этого еще больше ее любила. Она представляла себе все очень ясно, в картинках, и безымянные герои были для нее как родные. Хотя не все она понимала. Там было:
Вдруг вдали у ре-ки
засверкали шты-ки
это бело
гвардейски
е цепи
Идка не могла представить, как могут быть одновременно и цепи, и штыки, поэтому видела некий частокол из острых ножей, ощерившихся и злобно, бело сверкающих в темноте из-за тяжелых, провисших белых цепей, точно таких, как на пристани. За штыками она не представляла людей. Люди были на лошадях, а за штыками белое (папа пел раздельно « бело гвардейские »). Идка не знала еще истории и не разбиралась в ее символике, у нее была своя символика, в которой красное означало все живое, вообще жизнь, а белое – смерть. Поэтому для нее в этой песне юные, красные, прекрасные мужчины ехали воевать с белым – со смертью. И, естественно, погибали.
Но боец мо-ло-дой
вдруг поник го-ло-вой
комсомольско
е сердце пробито
Когда он падал, а потом говорил своему коню (вороному, и еще ярче, контрастней становилась вся картинка: черное с красным – на белом), – когда он падал и говорил пафосные слова про кровь за рабочих, Идке не хотелось плакать: она понимала, что так было нужно, по-другому просто не могло быть. Но сейчас в новом свете представилась ей эта картина: по законам бреда все смешалось в ее представлении, и это был уже не боец из буденновских войск, а Одиссей, который достиг наконец своей Итаки. Падая с коня, спокойно и просто закрывая глаза, умирая здесь – он поднимался уже там , в Итаке, и мерной, твердой походкой вечного скитальца шел к своему дворцу, где ждала его верная Пенелопа. Идка видела, что там он тоже живой, только теперь белый – белый на белом.