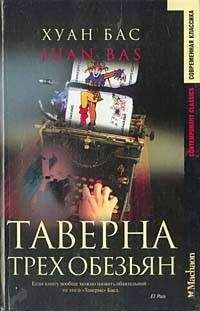Но сегодняшнее приглашение на вечер меняло дело. Соседство за игорным столом с упомянутой четверкой означало для посвященного, что ресторан Годфри внесен в недоступный список лучших харчевен Парижа. Собственно, четыре наихудших игрока в покер – как бы то ни было, его мастерство картежника прошло суровую закалку в тавернах Ист-Энда – показались ему невыносимыми, каждый на свой лад. Но для его целей это не имело никакого значения.
Бабетта Лаветт производила впечатление тучной нимфоманки, которая ела и пила непрерывно, помимо тех мгновений, когда ее рот был занят делом, тоже плотского свойства, что случалось довольно часто, хотя ей уже давно стукнуло шестьдесят. Минуту назад она уединилась с молодым волосатым посыльным из «Кафе Англе», который принес ей записку, в кладовке с консервами ресторана «Ля Тур Д'Аржо».
Игра шла в кухнях ресторана, уже к тому времени закрытого, благодаря любезности Осташа Экумуара.
Четверть часа спустя ненасытная толстуха вновь появилась с побагровевшим лицом, а за ней плелся несчастный посыльный с вытаращенными в панике глазами.
Осташ Экумуар был нестерпимо томным господином, с женоподобными манерами и голосом евнуха; буквально во всем он находил изъяны. Поговаривали, что если кто-то пробуждал в нем враждебные чувства, он становился самым коварным, подлым и злопамятным врагом из всех, с кем порой сводит судьба; еще говорили, что он обладал всего двумя способностями, но обеими в превосходной степени: он гениально превращал кусок мертвой плоти в кулинарный шедевр и мог доставить мужчине в постели удовольствие такое же или даже большее, чем королева проституток с площади Пигаль.
Антуан Гингетт, возлюбленный извращенца, был бесстыдным содомитом. В некоторых кругах его окрестили «Гоморритой», позволяя свободно фантазировать на тему о том, каковы были позорные обычаи – для непосвященных – в другом порочном городе из Ветхого Завета. Он жил за счет знаменитого повара, сам не имея никакого занятия. Самодовольный сверх всякой меры и никчемный, он, тем не менее, пользовался заметным влиянием в обществе, поскольку побеспокоился собрать доказательства тайных и постыдных грехов некоторых наиболее прославленных персон в Париже.
Наконец, Эмиль Золя производил впечатление человека тщеславного, тяжелого, жаждущего славы до умопомрачения. Любая беседа, которая немедленно не начинала вращаться вокруг его персоны или творчества, моментально теряла всякий интерес для маститого писателя. Злые языки утверждали, будто подлинной причиной отъезда из Парижа его старинного друга Поля Сезанна явилось желание сбежать от тягостных пиршеств в доме Золя.
– Думаю, мне пора откланяться, – сказал Годфри вкрадчивым тоном, показавшимся ему уместным после выигрыша последней сдачи. – Конечно, дорогие друзья, если с моей стороны не слишком самонадеянно так вас называть, я хотел бы сказать, что я польщен и счастлив вашим приглашением на вечер. Если позволите, я хотел бы предложить тост…
– Замолчите, сделайте милость. Не выставляйте себя еще большим глупцом, чем вы есть, умоляю, – осадила его Лаветт неожиданно и резко.
Английский повар застыл, точно каменное изваяние, с поднятой кружкой пива. Четверо французов изучали его со строгостью и любопытством ученых-энтомологов.
– Простите, мадам… Не понимаю, о чем вы…
– Естественно. Вы ничего не понимаете. Но полагаю, теперь это уже лишено какого бы то ни было значения. Который час, Эмиль? – осведомилась Бабетта, снова наливая себе щедрую порцию арманьяка и ухватив профитроль.
Золя извлек из жилетного кармана массивные золотые часы, открыл крышку, украшенную профилем Верцингеторикса, предводителя галлов, который наводил ужас на легионы Юлия Цезаря до поражения в Алезии.
– Скоро пробьет два. Да, уверен, прошло уже достаточно времени… – загадочно пробормотал писатель, дожевывая парочку устриц.
– Мистер Конкокшен, незамысловатый, хотя и не лишенный воображения фарс сыгран, занавес опустился и повторения на бис не будет. Притворство с картами окончено, уступая место неизбежной и всегда желанной правде без прикрас, первозданной справедливости, которая пробивает себе путь, подобно славному гусару, налетающему неистовым галопом с окровавленной саблей, – завел нескончаемую речь Гингетт, принюхиваясь к вину в своем бокале.
– Хватит с нас твоей проклятой абракадабры, Гингетт, – вновь встряла Лаветт. – Месье Годфри Конкокшен, перевожу: это вовсе не дружеская вечеринка за картами, и мы, самонадеянный низкопробный проходимец, отнюдь не являемся вашими друзьями, но уполномоченными членами высокого трибунала, который взял на себя труд охранять отечество от вредителей, подобных вам.
– Трагикомичных и злостных типов, что тупо и чванливо подрывают, подобно слепым кротам, надежный бастион неувядаемой гастрономии Франции, – пространно пояснил Гингетт.
– Помолчи немного, Антуан… Какое заблуждение! Вообразить хотя бы на один миг, что Осташу Экумуару и правда пришло в голову пригласить вас в гости, да еще при закрытых дверях, в святая святых «Ля Тур Д'Аржо» – процедил сквозь зубы Осташ Экумуар.
– Господа, какой трибунал? О чем речь? Зачем же тогда вы позвали меня сюда? – растерялся Годфри.
– Я обвиняю, – Золя имел склонность употреблять настоящее время изъявительного наклонения еще задолго до дела Дрейфуса, английского поваришку, грошового истопника; мы обвиняем его…
– …в заговоре против беззащитных парижан, главным орудием которого явилась его гнусная кухня, – подхватила Бабетта.
– В унижении благородной и восхитительной свинины, подверженной варке, – Гингетт вскинул руки к крашеным волосам.
– В уподоблении почтенных клиентов псам, предлагая им коровьи ребра, какая мерзость! – в негодовании вскричал Экумуар.
– В распространении среди простодушных людей привычки пить это варварское пойло, пиво, да еще в горячем виде, – подвел черту Золя.
– Я… не понимаю. Говорите, что хотите, но я не чувствую за собой никакой вины. Я лишь честный повар, который зарабатывает себе на жизнь тем, что умеет. И людям нравится, – защищался Конкокшен.
– Честный повар не берет денег за баранью ногу с мятным соусом: он сам должен платить тем, кто ест такое, – изрекла Бабетта.
Она привычно махнула рюмку арманьяка и выбрала на блюде бриошь с коринфским изюмом.
– Едва только я услышал о варварском сочетании этих ингредиентов – баранины и мяты, у меня даже пух на теле дыбом встал, – скривился Экумуар.
– Мало того, он дерзнул, с безумной непочтительностью островитянина, осквернить священный алтарь благородного вкуса доставкой омерзительного перебродившего питья разного сорта и в аляповатой посуде; к тому же держит его в мисках с теплой водой, словно оно принимает ножную ванну, – Гингетт указал на бутылки пива, стоявшие именно так, как было сказано.
– Что ж, я сожалею, если вас это обидело. Дело в том, что я пью только пиво… Вино мне не нравится, – пояснил Годфри.
– Кончено! Довольно, мы не желаем дальше слушать нелепости, – вскричал Золя. – Обвинения ясны, вина очевидна, и приговор предопределен.
– Какой еще приговор? Вы спятили? Что вы задумали?
– Всего лишь привести его в исполнение. И это уже сделано. Вернее, вы лично постарались, – мрачно сообщила Лаветт.
– Симптомы серьезного недомогания, которое начинает тревожить ваш жалкий желудок, несчастный мужлан, не являются результатом употребления перебродившего ячменя, а тем более поедания этих нелепых замаринованных огурчиков, – заявил Гингетт.
– Ваша отвратительная привычка, о которой нам доложили верные источники, слюнить пальцы, чтобы ловчее развернуть веером пять карт, когда вы играете в покер, принесла плоды. Через несколько минут вы умрете, убийца галльской кухни, – заявила Бабетта Лаветт.
– Это все шутка! Не может быть! – Годфри ощутил первый приступ острой боли.
– Мысль не нова. Достаточно всего лишь перелистать отравленные страницы книги – как учит нас знаменитая новелла из «Тысячи и одной ночи», – вставил просвещенное замечание Золя.
Бедный Годфри взглянул на пальцы правой руки со слабым недоверием. Он высунул язык и посмотрел на отражение в полированном подносе Золя – тот успел прежде ухватить стремительным движением последнюю устрицу – язык почернел.
– Проклятые убийцы! Подлые фанатики!
– Дорогие друзья, омоем руки, чтобы случайно не произошло какого-нибудь несчастья, – предложил Экумуар.
Он встал, чтобы подать на стол серебряный умывальный таз с мыльной ароматизированной водой.
Годфри Конкокшен проявил последнюю бестактность, явив их взорам малопривлекательное зрелище: изо рта у него хлынула пена, он закатил глаза, привстал со стула и рухнул на пол. Его тело свело судорогой, и лишь потом он окончательно испустил дух. Опыт, вынесенный из истории с индокитайским поваром, предшественником английского, подсказал четверым блюстителям гастрономических законов использовать в ядовитом снадобье меньшую дозу смертоносного стрихнина.