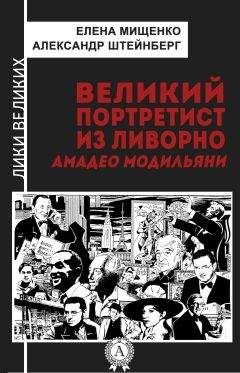— Ты совсем не изменился, — сказала Рая.
— Ты тоже, — вернул он вместо извинения за то, что ни разу не делал попытки увидеться с нею. Наконец, можно было прощаться и уходить, не ломая голову над тем, с кем это он встретился. Ну, конечно, на нее произвело впечатление то, что увидела его по телевизору, — вот и бросилась… Только врожденная деликатность мешала Борису Собакину немедля откланяться.
— Разве что раздался в плечах, — добавила Рая.
— Это произошло само собой, — сказал Борис Собакин. — Я не прикладывал никаких усилий.
«Что она смотрит на меня с надрывом нежности? Сумасшедшая! Чего ей от меня нужно?» — поежился он.
— Я скучала по тебе… очень долго, — выдала Рая, заглядывая ему в глаза. Бориса Собакина затошнило. Он с тоской посмотрел в сторону платформы на анфиладу арок, по металлическим желобкам которых он запускал в детстве монетки, и это называлось (в те далекие времена увлечения космосом): «выводить на орбиту». Дежурная по станции, которая когда-то гоняла его за эти «запуски» и которая так приварилась в его сознании к станции, что, однажды столкнувшись с ней в овощном магазине, он не поверил своим глазам: она могла существовать только на платформе! — подняв жезл, отправляя свой миллионный состав; любопытно, что она обладала способностью седеть…
— Ты знаешь, сколько вагонов в поезде метро? — спросил он Раю суровым тоном.
— А что? — растерялась она.
— Представляешь себе, люди каждый день ездят в метро и даже не знают, сколько вагонов… Ведь это странно, правда?
Она была вконец сбита с толку.
— Ты по-прежнему там же работаешь? — помолчав, спросил он.
— Нет, — ответила Рая. — Я работаю теперь в журнале. В военно-патриотическом, — уточнила она.
— В буфете? — внутренне усмехнулся он.
— Почему в буфете? — удивилась она. — В машбюро.
— Вот как? Значит, переквалифицировалась?.. Скоро главным редактором станешь.
— Ты все шутишь… — догадалась Рая. — А с прошлой работы я уволилась. Вернее, меня выгнали. Это была целая история…
«Проворовалась…» — меланхолически решил Борис Собакин.
— Сколько мы с тобой не виделись? Лет десять… — сказала Рая.
— Бог с тобой, десять! — засмеялся Борис Собакин. — Не преувеличивай. Самое большое — пять.
— Что ты пять! У меня уж сын в школу ходит.
— Молодец, — похвалил Борис Собакин.
— А тогда его и в помине не было.
— Ты что-то путаешь, — дружелюбно сказал он. — Впрочем, это неважно.
— Ничего я не путаю! Славке сейчас семь лет, а я его родила через три года после тебя.
— То есть сначала ты родила меня, — не удержался Борис Собакин, пытаясь своей придиркой отсрочить деформацию образа, но образ уже рвался в клочья, и гибнул Юрка, и бритый лобок… и вновь он очутился подле оранжево-коричневой пустоты, однако временная веха обещала пригодиться, провалившись на целое десятилетие вниз, застряв где-то между школой и подножием университета, он озирался вокруг, задним умом давя последние остатки Раи, а передними щупальцами мысли уже угадывал новый образ, впрочем, не желая в него уверовать, чтобы не обмануться другой раз.
— Я тебя не рожала, — обиделась экс-Рая.
«О, боже!» — воскликнул в душе Борис Собакин.
— Я пошутил… — извинился он.
— Тебе неприятно меня видеть?
— Ну что ты! — он дотронулся до рукава ее пальто доверительным жестом, призванным снять обиду. — Напротив… Вы не хотите прокатиться на лодке? — с открытой мальчишеской улыбкой спросил он.
Многоопытный Джим считал божьих коровок существами млекопитающимися.
Он сошел с электрички на залитом солнцем полустанке и окунулся в томный, ленивый, неподвижный полдень, покой которого не могли потревожить ни фиолетовые стрекозы, ни тарахтение невидимого трактора, ни шмели, с положительной целенаправленностью проносившиеся к пыльным цветам на клумбе, ни даже сама электричка, которая, жалобно пискнув, теперь убегала вдаль, напоследок обдав Бориса едкими масляными запахами… Какое-то время он двигался по мягкому, как повидло, асфальту, намазанному на остов платформы, в столбе дрожащего воздуха, который теребил ослепительную тетиву рельсов, выворачивал козырек станционного навеса, под которым клубилась тень, то в одну, то в другую сторону, и вообще имел неприязнь к любой прямой линии и рассудительному порядку прохлады; затем спустился по стоптанной деревянной лестнице к автобусной остановке и стал внимательно изучать расписание, вывешенное на проржавелом щитке. Увы, он приехал не то слишком рано, не то слишком поздно. Автобусы в этот час не ходили, что, как ни странно, показалось ему разумным. Он вернулся на станцию и постучался в окошко кассы, едва дотянувшись до него костяшкой согнутого пальца через лабиринт преград, выстроенных то ли против зимней стужи, то ли против нападения грабителей, причем даже если бы зимняя стужа с грабителями напали на кассу сообща, то и в этом случае следовало бы признать, что количество преград создано с щедрым запасом. Никакого ответа… Он подождал и опять, изловчившись, постучал. Послышались, наконец, шаги, раздался щелчок, и окошечко, не многим больше клетки школьной тетради, распахнулось. Низко наклонившись к нему, Борис, предварительно извинившись за свой вопрос, не имеющий отношения к жизни железной дороги, спросил, как пройти к пансионату, название которого он уточнил, заглянув в бледно-зеленый листок путевки. Окошечко защелкнулось столь решительно, что можно было не сомневаться во враждебном характере этого действия, однако не успел Борис огорчиться по поводу неудачи, как заскрипела дверь, и на пороге возникла полная женщина лет пятидесяти с большим, чумным ото сна лицом, в цветастом ситцевом сарафане. На припухшей щеке виднелся причудливый узор линий. Растирая поясницу обеими руками (видимо, заснула она в неудобной позе), кассирша хриплым, но неожиданно приветливым голосом объяснила Борису дорогу. По шоссе выходило километров семь, а лесом — не больше пяти.
— А я не заблужусь, если пойду через лес? — спросил Борис, не потому что боялся заблудиться, а просто ему показалось, что она ждет от него каких-то дополнительных расспросов.
— Не беспокойтесь, не заблудитесь, — сказала кассирша с очень серьезным видом, и, припоминая крупные и мелкие ориентиры, стала повторять свое объяснение, уговаривая его не путать просеки и не поддаваться гипнозу линии высоковольтных передач.
Борис не нуждался в повторе, но выслушал его терпеливо, и больше всего в объяснении ему понравилось то, что кассирша называет его на «вы», что в семнадцать лет случается далеко не часто. И чтобы кассирша поняла, что она совершенно права, говоря ему «вы», а не «ты», как какому-нибудь школьнику, Борис произнес солидно:
— Вот недельку хочу отдохнуть… после поступления в университет.
Слово «университет» произвело на нее должное впечатление.
— Такой молоденький, а уже в университет поступил, — покачала она головой, задумчиво глядя на Бориса. — А мои шалопаи…
Она горько махнула рукой. Но то ли мысль о шалопаях, сбила ее с толку, то ли разглядела она, что он «молоденький», во всяком случае вместо утверждения в своем «вы» она неожиданно съехала на «ты», сказав Борису:
— На худой конец, если заблудишься, — аукай! Народу сейчас в лесу полным-полно…
Это «аукай» было особенно обидным, но Борис стерпел и, уходя, вежливо извинился за то, что нечаянно разбудил.
В высоком сосновом бору пахло нагретой за долгое лето хвоей, и Борис радостно удивился этому сильному сухому запаху, от которого он так основательно отвык, что теперь скорее даже не узнавал его, а открывал заново… Он видел узловатые корни, задумчиво ползущие через тропинку, высовываясь из-под пружинистого настила желтых иголок, среди пустых растопыренных шишек, честно выполнивших свой биологический долг, он видел заросли орешника с прямыми светло-коричневыми пятнистыми ветками, из которых так хорошо получались в детстве самодельные луки, а вот — небо с одиноко пасущимся бараном облака, задержавшимся над кроной сосны… Неужели все это существовало вчера, неделю назад? Невероятно… Остановившись, он перевесил сумку на плечо, сорвал крупный круглый ореховый лист, аккуратно положил его на трубочку ладони и быстро накрыл другой ладонью. Раздался оглушительный хлопок, и Борис улыбнулся бледной хрупкой счастливой улыбкой человека, выздоравливающего после вконец измотавшей его болезни.
Экзамены — тяжелая болезнь!
Это было черное, бредовое лето.
Сначала обрушился шквал выпускных экзаменов, так что пришлось, стиснув зубы, засесть за запущенные предметы, в которых Борис отказывался что-либо понимать. Он столкнулся с чудовищными метастазными формулами, смысл которых от него в свое время бесследно ускользал, и чтобы его настигнуть, он откатывался все дальше и дальше к началу учебника, пока не попадал в благодушную атмосферу вводных бесед о само собою разумеющихся вещах, которые сопровождались демонстрацией всяких забавных фокусов; на минуту он увлекался фокусами, но очнувшись, в ужасе вспомнив, что на носу экзамен, он решительно перелистывал три-четыре страницы, и перед ним открывался период редких, вразумительных формул, по своей анатомии напоминавших мальков, плавающих в домашнем аквариуме, и в этом ручном подводном царстве он брался объяснить назначение каждому хрящику, однако не успевал он утвердиться в своем знании, как формулы с головокружительной быстротой начинали прибавлять в весе, рыбы крупнели и бешено размножались, они шли косяками, никакого аквариума уже не существовало, а вместо него был соленый безбрежный простор, и Борис терялся в догадках, на какой именно странице он снова потерял ниточку понимания, задумавшись о совершенно постороннем деле… Отдельной жизнью жили мистическое число «пи» и целый выводок связанных с ним теорем и прочих геометрических хитростей, которые в его мозгу почему-то ассоциировались с брусьями, кольцами, «козлами» и прочими снарядами, наполнявшими просторный и вечно пахнущий детским потом физкультурный зал школы, существовала целая наука тригонометрия, где тангенс имел сложные родственные отношения с косинусом и при этом зеркально отражался в котангенсе, существовала, наконец, логарифмическая линейка со стеклышком, которое Борис случайно раздавил ногой, что затруднило его знакомство с линейкой.