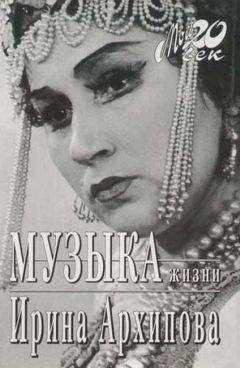— А вы думали! — сказал Юра. — Ты что, Бочар, мог подумать, я к тебе пустой приканаю? О Юре Садке так подумать! Саню вот привел. Очень Саня с тобой хотел познакомиться. Манера у вас — обалдеть, как друг на друга похожи. Я прямо поразился.
Он явно заискивал перед Бочаргиным. Вовсе я не горел желанием знакомиться с хозяином этой комнаты. Сам Юра и предложил. Меня так и подняло внутри на дыбы от этого Юриного двурушничества. Но не отнекиваться же было. Не устраивать сейчас выяснение отношений с ним.
— Похож на меня? — с ясной, внятной артикулированностью произнес Бочаргин, не донеся колбасы до рта. — Как это может быть?
— Обалденно, Бочар. Обалденно, — подтвердил Юра.
— Психоделику пишете? — уважительно спросил один из тех, что был юн, как соискатель аттестата зрелости.
Вынужден смиренно признаться, это слово на тот момент было мне еще неизвестно.
— А что такое «писходелика»? — спросил, в свою очередь, я.
О, какое молчание грозно разверзлось пропастью передо мной, суля радости отвержения и презрения!
— Ну. А еще чего ты не знаешь? — ясно выговорил Бочаргин спустя, должно быть, целые полминуты.
— Кто такие «Пет шоп бойз», имеешь понятие? — тотчас, в пандан ему, бросил мне вопрос лысоголовый.
— Может, ты и про Джорджа Харрисона не имеешь понятия? — не получив возможности ответить, заработал я от кого-то среднего возраста.
Меня начинали расклевывать, не дав сесть к столу.
— Ребята, — произнес я со смиренностью. — Это Юра мою персону неверно отрекламировал. Я вообще больше по части трепа. Перед телекамерой. И чтоб других на треп растрепать.
Бочаргин послушал-послушал, отправил колбасу, которую все так и держал в руке, наконец в рот и проговорил с прежней внятностью:
— Вообще ты ни хрена, я вижу, не знаешь. Сиди и слушай, о чем говорят, может, образуешься.
— Я думаю, Бочар, тебе небезынтересно будет Санину музыку услышать, — с видимым облегчением — никак его нельзя было не заметить — сказал Юра.
— Послушаем в свое время, — отозвался Бочаргин.
— Потеснитесь там, пацаны, потеснитесь, — помахал рукой человек-маска, показывая, чтобы нам с Юрой организовали места на стоящей вдоль длинной стороны стола раскладушке. Сам он, как и Бочаргин, сидел на диван-кровати с другой длинной стороны стола, и сидели они там просторно — всего втроем, возвышаясь над остальными подобно каким-нибудь богдыханам.
Я не берусь сейчас восстановить в точности все разговоры, что велись тогда за столом у Бочаргина. Скажу одно: это были обычные разговоры его застолий, и застольная атмосфера — тоже та, что и обычно, рождаемая, несомненно, характером и натурой хозяина.
— Все эти Гребенщиковы с Макаревичами, Газмановы эти с Малиниными — это все отстой, навоз, надеть противогаз — и не дышать, — говорил Бочаргин, сидя на диване с засунутыми в карманы джинсов руками и выпяченной вперед колесом грудью. — Это чтобы слушать, нужно иметь полный сквозняк в башне. Все на двух нотах, херня-мурня, в Древнем Риме их бы на съедение львам бросили.
— Но Гребень и Газман — это фигуры несопоставимые, — пробовал возражать ему кто-нибудь из тех, что были среднего возраста. — И Макар с Малиной. Малинин вообще чистый певец, не свое поет, а Макаревич, ну так ведь он и не претендует на большой саунд, у него чистый сингл.
— Заткнись в задницу! — взревывал Бочаргин. — Все одно, все! Попса, она в любой обертке попса. Настоящее искусство лишь в андеграунде. А эти в андеграунде сидели, только об одном и мечтали — в истеблишмент пропереться. Потому и проперлись, что настоящего искусства в них не ночевало. Я Макару еще в восемьдесят пятом, когда он в граунде сидел, говорил, что он фуфло. Цой правильно сделал, что ушел. Его в истеблишмент потащило — ну, тут бы он и накрылся медным тазом.
— Нет, но Цой как ушел, он же не сам, своей волей, он на машине разбился, — кидался поправлять Бочаргина снова кто-нибудь из среднего возраста. — А может, сейчас он бы как Гребень или Макар был.
— Кто, Витя?! — будто вставал голосом на дыбы Бочаргин. — Да Витя лучше бы и в самом деле себя на машине в лепешку расшиб! Витя — это… о, вы не знали Витю. Витя настоящий андеграундщик был. Без балды.
Человек-маска сидел в основном молча и, слушая каждого, словно бы посмеивался. Так у него, во всяком случае, были сложены губы. Он и не пил, а крутил свой наполненный на треть стакан в руках, подносил к лицу, вдыхал запах — и в нем словно бы поднималась волна отвращения.
Но изредка он все же вставлял слово, случалось, что это оказывалась целая тирада, и его Бочаргин не прерывал, наоборот — внимательно слушал.
Юра, с которым мы сидели рядом, когда в разговоре выпадала пауза, просвещал меня, ху есть ху. Один среднего возраста, с косичкой, как и сам Юра, был бас-гитаристом и играл с Бочаргиным. Другой среднего возраста, без косички, но с длинными волосами, волнами спускавшимися ему на плечи, сейчас был клавишником в довольно известной группе, однако намылился оттуда делать ноги и, может быть, именно к Бочаргину. Третий среднего возраста, тоже длинноволосый, но с обширной пустошью на темени, гулял сам по себе, нигде не играл, хотя мог отлично работать и на кларнете, и как клавишник, а зарабатывал на жизнь в какой-то иностранной фирме, торгующей пылесосами. Пылесосы были необычные — эксклюзивные (слово, только входившее тогда в употребление), продавались не через магазины, а только через специальных торговых представителей фирмы, и сегодня нам еще предстояла демонстрация этого пылесоса. Претенденты на аттестат зрелости состояли при Бочаргине вроде того что в должности оруженосцев, или, по-другому, были его школой, он их растил, позволяя брать у себя все, что возьмут, и может быть, через какое-то время они бы влились свежей кровью в его группу.
Но меня больше всего интересовал, конечно же, человек-маска. Оказывается, так выглядел ветеран подпольного рока, легендарный гитарист, которого рвали на свои студийные записи десятки самых различных групп, и когда Юра назвал его имя, оно даже всплыло у меня в памяти. И оказался он совсем не так стар, как мне показалось по его виду, — немного старше тех, кого я определил как «среднего возраста».
— Это он на колесах сидит, уж сколько лет — что ж ты хочешь, — сказал в объяснение мне Юра. Когда кайф наркотиком ловишь, то спиртное не лезет.
О самом Бочаргине Юра рассказал мне уже раньше. Бочаргин был накоротке со всеми: и с тем же Гребенщиковым, и Макаревичем, и разбившимся Цоем, они звали его в свои группы, но Бочаргину было дороже собственное творчество. Он только полгода как вернулся в Россию, больше двух лет прокантовавшись по заграницам, прошел через лучшие студии, познакомился с Джоном Диланом и Элтоном Джоном, подружился с Питером Гэбриэлом, а «Пинк Флойд» взял для исполнения его композицию, но они полезли в материал, стали кроить его под себя, и Бочаргин понял: нечего отдавать свое в чужие руки, нужно записывать самому.
— Дайте мне денег — и я переверну мир, — все так же сидя с засунутыми в карманы джинсов руками и выпяченной грудью, мрачно откомментировал Бочаргин чье-то сообщение, что запись саунда последнего альбома «Ганз энд роузиз» стоила триста тысяч английских фунтов. — Попробовали бы они без денег пропереться. А нам приходится.
Я поднялся и направил свои стопы к выходу из комнаты. Надо сказать, меня жгло любопытство. В Клинцах и я сам, и все мои знакомые жили даже если и в тесноте, но в собственных домах, и хотя на примере квартиры Ульяна и Нины я и познакомился с коммуналкой, все же, по сути, это была уже бывшая коммуналка. А той знаменитой московской коммунальной квартиры из песни Высоцкого — на тридцать восемь комнаток всего одна уборная — я никогда не видел.
Выйдя из комнаты, я очутился в просторной, большой зале. Она находилась в центре квартиры, и из нее вели двери во все остальные комнаты. Висело два велосипеда на стене один над другим, так что верхний — совсем под потолком, стояла непонятного назначения, в каких у нас в Клинцах хранят зимой на морозе квашеную капусту, большая, потемневшая от времени кадушка, громоздились древние три или четыре гардероба, и еще сундуки, колченогие столы, стулья, ведра со швабрами, тазы…
Один из двух коридоров, ответвляющихся от залы, привел меня в темный тупик, мрак которого уверенно свидетельствовал об общественном назначении помещений, должных здесь находиться. В туалете чешуей щетинилась краска на стенах, был усыпан бородавками конденсата металлический сливной бачок, вознесенный над унитазом на двухметровую высоту. Два упитанных таракана с длинными самоуверенными усами, не боясь света, неторопливо совершали променад поперек одной из боковых стен, с очевидностью полагая эти пространства своей вотчиной, дарованной им Создателем для кормления.
Второй коридор вел на кухню. После влажных пещер туалета и ванной я увидел пещеру сухую. В этой сухой пещере с дочерна закопченным потолком около одной из двух газовых плит священнодействовала над чугунным котлом, гудевшим на красном огне, пожилая троглодитка в застиранном халате из байки. Услышав мои шаги, она обернулась, молча перетерла в сознании мое приветствие — и заорала: