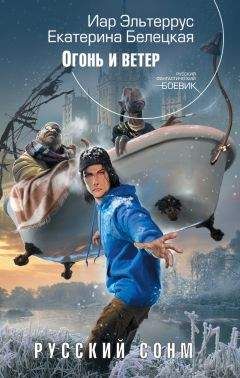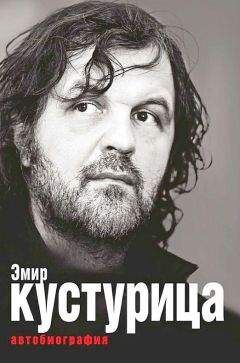Снова прыжок с гамака: в те времена частенько, словно схваченный за кадык мавровой дланью, вскакивал я на колени, с криком, прикрывая горло. И вот тогда тоже, упав да упёршись запястьями во влажноколчатый дёрн, я долго выпутывал из сети ступни (длиннющие, хрупкие, прозрачнокожие, такие, слышь неэкономный Рембрандт, пригвоздишь одним ударом молота!), орфическим взором шастая по земле в поисках былинной гадюки. Затем опять — глум ухмылки нового коробка, шип и трепет бледно-синего пламени, дым от сосновых поленей, уютно-зелёных, с зачатками ветвей, выпученными на меня, словно это я удушил их. Не хватало лишь измывательского «бре-ке-ке-кекс-квик-квак». Пальцы сымпровизировали Шубертов вопль (ещё, ещё раз!), выискивая багор для удара по тяжёлой воде, — вот же она, запретная ядерная комбинация, истинная стиксова суть! под самым днищем! — хоть и не ведал я ещё о зоологическом чуде присутствия пресмыкающегося по ту сторону забвения. Вдруг — шорох. Я обернулся на блеклую тень, пахшую (это я сообразил лет двадцать спустя, в наумбурговском котловане, и дале, на душном дворе Пфорты, а затем в реке, где плавал я на спине, в красной соскальзывающей шапочке, — ибо есть ароматы, застревающие в складках ноздрей, пускающие там корни, вызревающие потом, кучерявясь) смесью августовской бахчи и прелого виноградного духа склонов Саара — золотой страны, отмирающей от ядерной ночи мысли, жертвуя ради выживания поколениями, как ящерица — членом. Он был стар; как и положено в таких случаях, при бороде, кепке, давно остывшей козьей ножке меж блёклых младенческих губ, и с той червоточиной в глазах, кою льстивые портретисты казнелюбцев называли, выписывая её циннабаритом, «задоринкой». Что в нём поражало, внушало никербокеров ужас бдительному читателю холмсовых монологов, так это до вороного блеска, как гвардейская лошадь, надраенные ботинки с высокой белой шнуровкой, чуть скрытой зеленью обшарканных брюк, да руки, которые он, проследивши направление моего ошарашенного взора, попытался спрятать в прорехи чёрной телогрейки — чистые, с холёными ноготочками, точно у выплывающей из маникюрного салона солохи. Затем молча, профессиональным жестом гульбищного чудотворца, он выхватил из воздуха щепоть сена, спрятал его в хвойное логово, откуда, сломя голову, удирал красный муравей, извлёк из хватких травяных щупалец коробок, и чиркнув, поднёс к нему дрожащий бледный огонёк, отчего всё сооружение выпустило струйку, как одинокий шатёр в пустынных полях: «Погоди малость, само займётся», — только и сказал он и, не оглядываясь, скрылся в лесу, потешно сгибая левую ногу, вместо того чтобы, как и положено нечисти починовней, провалиться сквозь землю.
Я хмыкнул презрительно, раздавил уже бесшумного пивовара, отвесил пенделя валежнику, тотчас застелившегося тёмной дорожкой до самых, вдруг замерших елей, — бросился в гамак, уставился в небеса, где розовый луч, зацепивши его словно пинцетом, отгибал наливающийся алым свитковый край, откуда, струясь, разъедая прожаренное облачное мясо, трепетно расходилось радужное холмогорье. На Земле же ничего не менялось. Ничего. Та же серая насупленность, та же рассыпчатая капель: обрушится беглая очередь, словно сорвётся канатоходец, поочерёдно всеми членами ударившись о булыжник, — и снова тишина. Бор затаился, выжидая. Я поглядел на кисть, впервые заприметивши по-новому сложившиеся пальцы. «Шшшьщепоть», — прошипел я, гыкныв, разглядывая припавшие друг к дружке персты, словно нашедшие ямку, слившиеся, планетному притяжению повинуясь, в неё подушечками, отчего вся кисть вдруг померещилась хрупкой, — а у основания «пальца-толкача» (так называют французы удалённую от прочих пару фаланг) набухла мышечная горка, запульсировавши волосатым кратером.
И тут, будто отвечая (веки? вечность? приподнимая, не умирай, окольцованный гоголёк!) мне на наречии моего сызнова обретённого племени, зашипело, взвыло, гикнуло, дёготно, яро: «Гох-гох-гоххх», — и тут же — «у-у-у-у-уффффф» — нехотя («Ungern!» — заявил бы сверхевропейский тиран) скатываясь на «а», смешивая гласную с воем да рыком, — выводя доселе неслыханное, со многими неизвестными, «ррру-у-у-у-у-у-у-у-а-а-а-а-а-ааххх», и требуя от бора отзывчивого малороссийского эха. По махровой валежной дорожке огонь ринулся к елям, в суматохе подбиравшим юбки, будто спасая их от волны, взметнулся рокотом к обалдевшим от полуденной яркости, — внезапно кинувшим в пламень паранджу, — небесам; осветил деревья точно рождественскими гирляндами; стал брать поляну в окружение («Сподвижничая древнему плану», — подумалось мне тогда по привычке; на самом же деле орудуя слаженно, словно обезумевший от ароматов ктесифонского воя, кельтский, разрываемый на сомостийные манипулы, легион: «Ца-арррррасса-а-а-а! Хай! ЛЛЛиоссссс!»), окучивая её наваристой синевой дымных шаров (обращая мои глаза, приобретавшие голос самки, словно ещё нераскрученный штурмовик Нигромонтан — веймарскую свою полячку с Пушкинской улицы, — в учение о цвете), играя ими, надувая их, черня и вдруг подрисовывая ало-изумрудный, с карими зеницами, хвост пирилампова павлина.
Я сиганул с гамака, высоко задрал ноги, дабы выпутаться из вдруг сорвавшегося с ремней невода (отчего, на мгновение потерявши равновесие, повторно просеменил несколько саженей на четвереньках), опрометью бросился по тропинке, не оглядываясь, горящими мочками ушей, затылком, лопатками, пятами ощущая клокочущее смольчуком пламя, точно тиран-меломан разогревал своего bison bonasus. Вот тут-то, гонимый пожаром, заприметил я короткую тень, белую, скороскользящую, неимоверно родную, и, прибежавши на полустанок, — полуденная электричка поджидала меня с трогательным горбком, или даже с двуми, я, запыхавшись (странно, однако, замедляя зрение, как назло обомлевшему балагану кинематографа, вплоть до девяноста шести кадров в секунду, ещё не выучившись пользоваться созерцательным средостением для расширения объёма лёгких, что пришло позже, когда, угрожая сердцу разрывом, беговым ритмом принуждал я мир не лепетать, а означать, размножал Солнца, заставлял их сонм сотрясаться под трепет моей диафрагмы, расцвечивая их секрецией моих бронхов, и тотчас — поэтический скачок! — караибским ныряльщиком изнывая по коралловым букетам), не сознавал ещё, чем больше стоит чваниться: таинственным ли сретеньем; сознанием ли начала новой эры, точно подманенной мною, — цып-цып! — щепотью рассыпавшим зёрна; нечаянно ли удавшимся преступлением (следующим стало мошенничество, названное уже парижским комиссаром, ошалевшим от невольного восхищения, «la belle écriture»), пахнувшим в неистово шастающее вагонное окно дымом…
«Дыыымммм, дымм…» — нагромождение атанорового свиреста джаза, досадливое и густослякотное, как демократическая сорокобарщина, смешанная с тройкой лещиных морд, трупами головастиков, использованным гнусным предметом, полусгнившей ольшаной серёжкой, — словом, всё, находившее в слоистости оправдание своей родословной и собственного презренного бытия, зловонное (насколько звук способен смердеть!), лезло в комнату, забиралось под одеяло, тотчас откинутое, слетевшее прочь, мяукнув, — четверолапый, жёлтый сейчас от лучей силуэт, метнулся прочь, скатился с мягким грохотом по лестнице, откуда Алексей Петрович почуял стойкий табачный запах.
Странный озноб пролил гусиную кожу на живот, плечи, бёдра, — даже шовные узлы, и те ощетинились нитями. Знать Бог приостановил свою пляску. Ленивец! Солнце застыло в зените, — сколько свежайших, прямо из-под несушки желтков, сколько розового сиропа да янтарного порошка нужно истолочь в ступе, чтобы собрать воедино его краску! И как утомляется кисть! Алексей Петрович, отгоняя укоризненный образ Порфирия, унял разбушевавшийся натиск фаллоса, драпировался полотенцем, юркнул в ванную, где постно, и с претензией на васильковую галльскость, пованивало Лидочкой, а пена, рыже-седовласая, ещё тёплая пена, сыто причитая до отвала накормленной плакальщицей — ггум, ум, умм, гуммм, ххгомммм, — свисала через рукомойник мясистым вихром.
Алексей Петрович вычистил зубы, и хлопья пасты зелено заструились по щетине, одаривая его расцветающей, точно под экспрессионистской кистью, козлиной бородой, смытой затем им под душем, таким ледяным, что Алексей Петрович, не утерпев, дважды ненароком глотнув фторную жижу, и выскочил, притоптувши себя пятою ноги под зад (расколовшийся в зеркальном диптихе на пару ровных половин), проехался по кафелю, раскинувши руки, словно в поисках напарников для хасапико, не нашёл, самолично удержал за обе шкирки пошатнувшийся мир, плечом ударивши дверь, и, молниеносно отметив оливковый взрыв с звёздношляпковыми винтами, обнажившими свою платиновую спираль, нагнулся за полотенцем.
Было весело скользить по коридору, голому, Бога прельщая прюлисом, опасливо оглядываясь на дым, источаемый Лидочкой в паре шагов от лестничного поворота; жар распирал Алексея Петровича, будто и не проспал он всего несколько часов после суток бодрствования: вдарить с гиканьем тяжестью всего тела, мгновенно надавив сокуто, — в стену, доверившись полновесной воле случая — крушить! — разносить в клочья податливую материю — достояние отца!
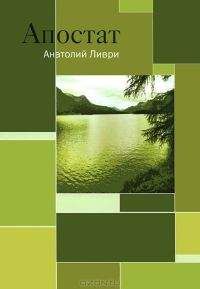
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)