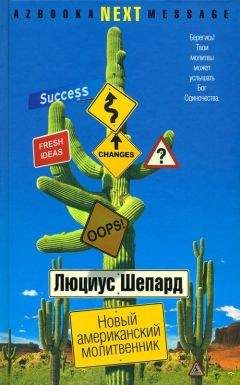Нэнси Белливо, которой, как я уже упоминал, принадлежало это заведение, стала героиней молитвы, вызвавшей самые жаркие споры. Бывшая танцовщица (а заодно, как поговаривают, и проститутка) из Лас-Вегаса, Нэнси и в сорок один оставалась чрезвычайно привлекательной женщиной — лицо у нее слегка усохло, но зато в выбеленных солнцем светло-русых волосах седины не было ни капли, а фигура так и осталась образцовой, что ее обладательница любила подчеркивать джинсами и свитерами в обтяжку. Неоновая вывеска на крыше ее бара была скопирована с нее самой, а ее миниатюрные копии висели в каждой обтянутой кожей кабинке. Нэнси и сама нередко принимала позу безликой неоновой красотки с вывески, ждущей посетителей, — руки на бедрах, левая нога впереди, правая чуть сзади, — словно рекламируя себя. Компанейская, бесстыжая, да еще и, по отзывам ее многочисленных жертв, серийная сердцеедка, она, несмотря на все несходство с Терезой, была, до моего прибытия в Першинг, ее единственной подругой.
Моя молитва начиналась так:
Немного найдется в Першинге мужчин,
кто б никогда не думал
о грудях Нэнси Белливо.
Дальше все строилось на контрасте между темной прохладой бара, негромкими разговорами, тихим гитарным перебором старых местных групп, доносившимся из джукбокса, и острой перченой едой, которую подавали в «Столовой горе» и которая была кулинарным аналогом неприкрытой сексуальности ее хозяйки. Хотя я стремился сделать молитву не только набожной, но игривой, многие из бывших любовников Нэнси, находясь в критическом умонастроении, вызванном чрезмерным потреблением горячительных напитков, в штыки восприняли выраженную в ней мысль о том, что каждый из них являлся не более чем ингредиентом в рагу, которое прекрасная хозяйка ежевечерне доводила до кипения в кухне своей души, а потому бывало время, когда Нэнси предпочитала не выставлять мой труд на всеобщее обозрение. Однако сейчас молитва была прикреплена прямо к середине зеркала за стойкой бара, а по обе стороны от нее, точно певчие в хоре, выстроились бутылки со спиртным: теперь это был артефакт от Вардлина Стюарта, свидетельство Дней, Когда Он Начинал. А когда кто-нибудь из приезжих спрашивал ее, что это за штука такая в серебряной мексиканской рамке, она не только показывала им молитву, но и читала ее наизусть, от начала до конца, особенно выделяя своим хрипловатым голосом те строфы, в которых я описывал ее тело или ее чувственность.
— Этот стих принес удачу многим парням, которые сюда заходили, — сказала она нам как-то вечером, незадолго до Рождества.
Мы с Терезой сидели у нее в баре, у самой стойки, она — с кружкой пива, я со стаканом водки, а Нэнси, опершись локтями о прилавок, наклонилась к нам, обдавая все вокруг сверхдозой «Опиума».
— Да-да, — продолжала она. — Стоит мне увидеть, что парень реагирует на мое чтение как надо, и он в придачу к выпивке получает удовольствие бесплатно. Что-то вроде испытания.
— А «как надо» — это как? — спросила Тереза.
— Ну, солнышко, ты же знаешь. Как будто он грезит о тебе день и ночь, а не спит и видит, как бы из тебя фрикасе сделать и косточки твои обглодать. — Тут Нэнси зачерпнула несколько кубиков льда и опустила их в мой стакан, потом плеснула туда еще водки. — Я всю жизнь ищу парня, который поверит, будто конфетка у меня, а не у него. — И она обернулась к Марти Кушману, костлявому юнцу в кепке с эмблемой «Даймондбекс»,[39] который сидел у противоположного конца стойки, рядом с окном. — Эй, Марти! Я права?
Марти оторвался от своей газеты:
— Ты о чем?
— У кого из нас конфетка? — спросила его Нэнси.
— У тебя, детка, — ответил он и долго еще не сводил с нее взгляда, хотя она давно отвернулась.
— А тебе не кажется, что это жестоко — так растравлять ему рану? — спросил я.
— Ничего я не растравляю! Марти прекрасно знает, что пройдет Рождество, в город прилетят дрозды, мне станет скучно и я снова вернусь к нему.
— У Нэнси есть цель, — сказала Тереза не без чопорности, — перетрахать всех мужиков в Аризоне.
— И вовсе не всех! Только тех, кого я сама выберу. И не строй из себя пай-девочку, Ти. Помнится, ты и сама была не прочь. — И она постучала меня костяшками пальцев по предплечью: — Она тебе никогда про Сан-Франциско не рассказывала?
— Упоминала, — ответил я.
— Но рассказала явно не все. У нее в столе еще много запертых ящичков, если ты понимаешь, о чем я.
— Да уж, тебя трудно не понять, — сказала Тереза.
Нэнси наклонилась и чмокнула ее в щеку.
— Ну, не дуйся. Ты же знаешь, как я тебя люблю.
Против собственного желания Тереза ухмыльнулась.
Внутри джукбокса что-то щелкнуло, и «Песчаные рубины» снова завели про «Пушки на церковном дворе»,[40] а Нэнси им слегка подпела.
— Вот если бы ты был свободен, Вардлин. — Она приложила указательный палец к подбородку сбоку и оценивающе посмотрела на меня. — Я хочу сказать, если бы эта девочка тебя не подцепила, я сомневаюсь, что ты прошел бы мое испытание. Ты иной раз как глянешь — ну костогрыз костогрызом. А потом вижу, как ты семенишь рядом с Терезой, точно щенок, и думаю: «Нет, этот парень явно из породы мечтателей».
— У твоего теста есть один недостаток, — сказал я, — ты не берешь в расчет, что в каждом мужике есть немного и от костогрыза, и от мечтателя. И они то и дело меняются местами.
— Думаешь, я не знаю? Моя проверка куда тоньше, чем вам кажется, мистер Стюарт.
— Может, мне уйти, а вы тут без меня поспорите? — спросила Тереза.
Нэнси бросила на меня притворно-растерянный взгляд:
— Ой, она не в духе! Ты что, ее вчера в пустыне передержал? — Потом снова заговорила с Терезой: — Ладно, солнышко. Хочешь поговорить о последнем церковном празднике — поговорим о нем. — Тут ее внимание привлекла открывающаяся дверь. — Бог ты мой! — воскликнула она. — Врата ада разверзлись, не иначе.
Монро Трит в сером костюме а-ля вестерн шел по одному из проходов, ведя перед собой даму. Он оказался выше, чем по телевизору. Под сто девяносто, наверное. Его дама была моложава, фунтов на двадцать пять тяжелее, чем нужно, и затянута в темно-синий костюм, который вполне подходяще смотрелся бы воскресным утром в церкви, а не вечером в «Столовой горе». Судя по макияжу, ее визажист специализировался в глянцевании ветчины для рекламных роликов. Они уселись за дальний столик, и к ним тотчас же подошла официантка, одетая, как и все прочие в этом заведении, а-ля Нэнси. Женщина сидела, выпрямив спину и стиснув руки, и молчала, предоставив ведение переговоров Триту.
— Хочешь, зашвырну преподобного и его мисс Петунию[41] в дальний космос? — спросила у меня Нэнси. — Мне все равно.
— За каким? Может, парень просто выпить хочет?
Нэнси отошла к официантке принять заказ, потом вернулась и сказала:
— «Белого русского» и «Лилле».[42] Ни за что не догадаетесь, для кого «Лилле»! По-моему, я за всю жизнь мужику его не продавала.
Тереза наклонилась вперед так, что наши головы сблизились:
— Как по-твоему, чего он хочет?
— Стакан «Лилле», судя по всему, — ответил я. — Не обращай внимания на эту задницу. Если он что-нибудь затевает, мы об этом узнаем.
Нэнси лениво обмахнула стойку тряпкой.
— Интересно, что это с ним за мисс Петуния такая.
Тереза быстро оглянулась на парочку через плечо:
— Костюм на ней дорогой. Лично я бы его и на похороны не надела, но ей он явно недешево обошелся.
— Он ее трахает, — сказала Нэнси. — Если у нее есть деньги, значит, он ее трахает, так или иначе, гад ползучий.
Я залпом допил свою порцию и пододвинул Нэнси стакан:
— Может, поговорим о чем-нибудь другом?
Нэнси потянулась за бутылкой «Абсолюта».
— Так-так. Один из вас не хочет говорить о сексе, другой — о Трите. — Изображая задумчивость, она налила мне еще. — Как насчет нового круглосуточного магазина за Кардуэллом? Я слышала, строительство идет бойко.
Тереза еще раз оглянулась на кабинку Трита:
— Он держит ее за руку!
— Можно еще поговорить о прошлой жизни, — сказала Нэнси. — Я уже рассказывала вам, как танцевала для царя Ирода?
— Черт! Напьюсь в целях самозащиты, — сказал я. — После этой можешь не давать мне ничего, кроме водки с мартини.
Женщины переглянулись, и Нэнси сняла с полки бутылку «Куэрво голд».
— Текила! — сказали они в один голос.
Через час у нашего конца стойки стало шумно. Мы громко разговаривали и весело хохотали. Трит, чье появление минут на десять-пятнадцать вывело меня из равновесия, больше не маячил на моем умственном горизонте. Нэнси повесила над зеркалом новогоднюю гирлянду в виде цепочки кактусов, и я, позабыв обо всем на свете, смотрел, как они мигают, счастливый и сосредоточенный, точно брокер, наблюдающий за медленным, но верным ростом своих акций. Скоро к нашей компании подсел Джерри Дерогатис, тощий двадцатитрехлетний парень с зашибенной копной волос чуть не до задницы, который зарабатывал на жизнь тем, что чинил кондиционеры на отцовской фирме. Он был фанатом нового стиля, сам писал молитвы и утверждал, что они все до одной работают, но я, убей бог, не мог понять, в чем заключается их действенность, потому что ситуация Джерри — по крайней мере, внешне — не менялась ни на грош. Мне пришлось притворяться, будто я не замечаю его восхищенных взглядов, и от этого мне стало неловко, но тут Нэнси взялась флиртовать с ним, и скоро он уже не видел никого, кроме нее.