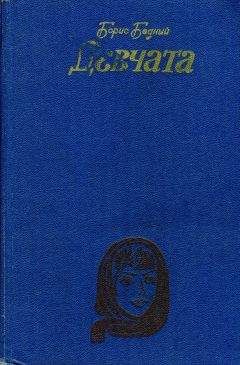Я вглядывался, вглядывался в свою няню, отыскивая в ней давние ее черты, какие я помнил, сличая с девичьим ее портретом, и находил, что я вроде бы вообще ее представлял даже такую вот, в годах, может, видел, и все больше угадывал в ней общего со мной. Что-то вот во взгляде. И в самих глазах, хотя они и не такие цветом… Что-то в раскладе бровей. И в самих бровях, широких и прямых… Что-то во всем лице, в выражении… И что-то общее в ней с моей мамой… Особенно во взгляде…
— А я сильно изменился с тех пор, няня? Узнали бы меня, если бы встретили где?
— А то б не узнала! — бойко, сквозь вечное свое стеснение, отвечала няня. — Вот и седой уже, а узнала бы хоть где!
— Так ты ж часто его видишь, — засмеялась в уголке Дарья Филипповна: мол, подожди, ты еще не такое узнаешь!
Няня вспыхнула опять, как девочка. Сказала решительно:
— Это когда ты здесь работал, в редакции. — И глядела радостно и стеснительно: вот, мол, я все знаю про тебя.
— Хи-хи-хи-хи, — Дарья Филипповна. Вот какая она у меня, мол. Да ты еще не такое откроешь, подожди!
— Ты жил на Школьной, у Марковны. Потом на Урупской, у Копыловых, — бойко и радостно говорила няня. — Я стану там где-нибудь или на лавочке сяду напротив, подкарауливаю, а ты идешь. Или на машине подъезжаешь. Тебя часто на машине подвозили.
— Специально… меня… караулили?
— Да отводила душу, — созналась няня.
— Почему же вы не подошли?
— Так знала же, что ты придешь. Рано или поздно…
— Так и думали?
— И думала, и чувствовала, и знала. — И глядела преданно и открыто, с девчоночьим, мило уживающимся со стеснением, задором.
— Наверное, и выпившим меня видели?
Она вздрогнула, напряглась вся. Покачала головой.
— Нет. Никогда не видела. — И смотрела искренне, растерянная и удивленная. — А что, ты пьешь?
— Было, няня.
— Василий, тот пьет. А о тебе даже не слышала.
— Какой Василий?
— Да тоже нянчила, — сказала няня. — Стеблин. Ты его, наверно, не знаешь. Из Москвы он. — И опять навела на меня сверкающие свои глаза. — Когда вы уехали с хутора, меня взяли в Москву нянчить Васятку. Наш, отрадненец, Теслин, жил в Москве, в министерстве работал, он и взял, ему Плахута посоветовал. Так он вот вырос, Василий, выучился, инженер теперь, а жизнь не ладится.
— А где он живет, Василий?
— В Отрадной. Закончил институт, приехал, здесь и остался. У него же родня здесь. Да он сказал: поеду, где няня… Так он хороший, душа у него есть, а вот в жизни не везет.
— А Плахутины как? Все выросли?
— Все. И все повыучились. Трое — здесь.
— А вы учились?
— Да почти и не училась. Пошла, было, в Москве. А у них другой появился. Тот там прибился, Анатолий. Но и у него тоже что-то не складывается жизнь. Разошелся… А и не пьет.
Дарья Филипповна: «Хи-хи-хи-хи» — в уголке. Мол, что оно такое? У всех одно и то же.
Я переживал за няню.
— Так вы и не учились?
— Да так и не пришлось, Ваня. Тот, Анатолий, стал ходить, война началась, я в госпиталь пошла няней. Потом приехала сюда, мама одна осталась, и вот какая, надо было работать. И как пошла, так по сей день. (Дарья Филипповна тихо и печально, почти слезно, засмеялась). Да, вот так и получается, — точно бы подтвердила няня. — Теперь одна радость — вот вы. — И просияла улыбкой, жаля мне сердце этой своей улыбкой.
Няня поправила юбку, глядя прямо в глаза мне. Сказала, загораясь по-девичьи:
— Я ведь на выступлениях твоих бывала. Когда ты в Отрадной выступал. В Доме культуры была. В первой школе. На пищекомбинате… А когда тебя по телевизору показывают, то всегда смотрю… — И она вспыхнула, скосила стеснительно глаза на вырезки программ, лежавшие на столе.
Я отыскивал глазами телевизор. Она поняла. Сказала все так же бойко:
— К соседям бегаем. Своего еще не приобрели.
Я невольно задержал свой взгляд на нянином портрете, где она совсем юная, поглядел на убитого ее жениха. Няня тоже глянула.
— Кавалер мой. В сорок третьем подружились. В сорок четвертом проводили и сразу, что-то через месяц, бумагу получили. — Она преданно и тихо, с прижившейся уже в ней, смирной уже, не бушующей болью смотрела на фотографию. А я смотрел на нее, на ее маленькие, в мелких, темных от соков трещинках руки, замершие у нее на коленях. Спросил, чувствуя, что не нужно спрашивать, но не в силах сдержать себя:
— Так вы и…
Она поняла.
— Так, Ваня, и осталась. (Дарья Филипповна: «Хи-хи-хи-хи». В своем уголке. И во мне от этого ее смеха заворочалась рыдание). Находились. Но то пьяница. То мотолыга. То ветреный. Путнего и не находилось. — И снова глянула на портрет. — Ни один не стоит ногтя его.
Старушка хихикнула: они ж какие, мол, теперь, ухажеры!..
Няня смотрела на погибшего своего дружка. Уставше. Отсутствующе. Словно бы жила там, далеким своим невернувшимся счастьем. Может, видела себя и его, стоявшими в далеком сорок третьем году у калитки, под распускающейся вишней…
— А ты ж как, Ваня? — спросила она, вдруг очнувшись, с материнским вниманием. — Сам живешь? Или с семьей? — И вся жила мной в ожидании ответа.
— С семьей, — сказал я, не в силах сказать правду.
И тут же подумал: «Да она все знает, моя няня, все!» Дарья Филипповна посмеивалась, любяще глядя на свою дочь из своего угла. Я поднялся, не в силах больше держать распирающей меня лжи. Няня тоже подхватилась.
— Уже и уходишь?
— Пора, няня.
— Давай же хоть повечеряем. Что же мы?
— Спасибо, нянечка. Я вечерял, — врал я. — Мы сегодня ездили по хозяйствам, нас всюду кормили, — врал я дальше. И все больше ненавидел себя.
Няня смотрела на меня перепуганно, но вместе с тем — преданно и любяще. И в глазах ее, в удивительных глазах ее, в черных глазах ее стояли чистые, выражающие боль за меня, прямо кричащие слезы.
— Я, может, завтра приду, — сказал я. Хотя ясно сознавая, что могу не прийти. Вряд ли завтра найду в себе сил, чтобы прийти. Я приду. Обязательно приду. Только, может, не завтра. А может, и завтра. Может, и найду в себе сил завтра. Я же солдат! Привык выполнять данное слово! И, может быть, найду в себе чистоты… Я обнял маленькую мою, старенькую няню. — Дорогая моя няня! Спасибо вам за все, милая моя нянечка! И вам спасибо, бабушка, Дарья Филипповна. — Я поцеловал обеих. — Спасибо. И извините меня. Если я сейчас не засну, то совсем не засну.
За двором, напротив автостанции, еще кипевшей людьми, я сказал с наигранной веселостью:
— Ну, хватит меня провожать, няня. Разрешите, я еще вас поцелую. — И поцеловал. В ту же ее морщинистую, по-девичьи вспыхнувшую щеку. — Спасибо за все, нянечка. За то, что сберегли мне жизнь в то трудное наше время. И что спасаете меня теперь.
Она не поняла. Из-за своей чистоты. И из-за своего любования мною.
— Простите меня, няня. За все, — сказал я. — И пусть все меня здесь простят, на родине… За все, что налипло на душу, которую вы сохраняли. — Я взял ее руку. Пожал. Она достала из-за кофточки и сунула мне свернутую в трубку тетрадь. — Что это?
— Песни и частушки, — отвечала она, вся живя мной и ничего не понимая и не желая понимать, кроме своей любви ко мне. — Ты как-то говорил в ильичевском Доме культуры, что собираешь. Я вот записывала…
Пусть я сам себя сожгу за столом, но напишу все, ничего не скрыв: ни того, что было со мной и что во мне; ни того, что было вокруг, что было с моей родиной и всей страной; я сожгу себя, чтобы свет от этого костра осветил путь и будущее моей дочки и всех ее сверстников… Что ж? Будем считать, что я такой и есть — маленький, каким оберегала меня няня; и будем расти, очищаясь от всего ненужного, налипшего в жизни…
Я уснул в эту ночь без снотворного, лишь разобрал несколько няниных неграмотных дорогих строчек-закорючек, так похожих на мамины, и спал крепко, чувствуя, что в эти святые минуты никакого снотворного не надо…
— Вот спасибо тебе, касатик, что взял. Сразу видно, внимательный. Куда бы только корзинку пристроить? Да ладно, я ее на коленях подержу. А то вдруг побьются яички! Я ж их штучка к штучке собирала. Каждое знаю до пупырышка. А как же! Еще в курице знала, какое будет. Без этого в хозяйстве нельзя. Любовь ко всему, за что ни возьмись, требуется. Вот, к примеру, ваше дело, шоферское. К нему тоже сердце нужно. А разве все сознают это? Нет, не все. Иной раз попадет какой лихач, так пока доедешь, от костей все отстанет. А ты машину правишь, ровно клад везешь. Ехать с тобой — одно удовольствие. И дорога чувствуется, как рубашка новая. Что? Что ты сказал? Фу! Хырчит твой мотор, как поросенок недорезанный, забивает голос. Говоришь, цокотуха? Угадал, касатик, угадал. Вот такая я сроду. Это ты как в воду глянул…