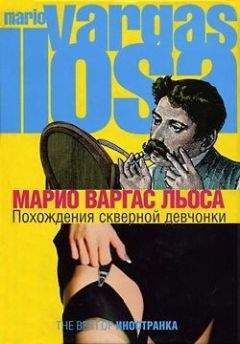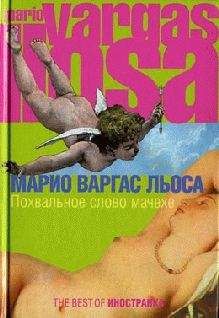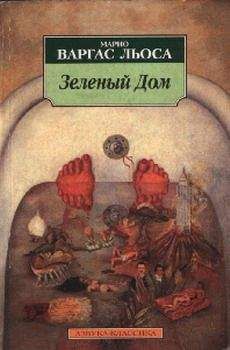– Он признался мне, чтобы облегчить душу. – Донья Лукреция отстранилась, и у дона Ригоберто на миг остановилось сердце. – Разделив со мной свой секрет, он перестал быть таким одиноким.
– Как ты думаешь, он попросит тебя об этом в следующий раз? – поинтересовался супруг, продолжая нежно целовать ей ушко.
– Тогда я уйду, хлопнув дверью. – Донья Лукреция повернулась к мужу и ответила на его поцелуй. – И больше туда не пойду.
Однако все вышло совсем не так. Мольбы Мануэля были столь жалобны, а слезы столь искренни, что донья Лукреция не смогла (или не захотела?) ему отказать. Разве могла она холодно обронить: «Ты забыл, что я порядочная замужняя женщина?» Нет. Или что-то вроде: «Ты злоупотребил нашей дружбой и разочаровал меня»? Ни в коем случае. Она стала утешать бледного, пристыженного Мануэля, он молил ее не сердиться, не бросать его. Мотоциклист выбрал правильную стратегию: тронутая столь драматическими переживаниями, Лукреция сжалилась над беднягой и – у дона Ригоберто закололо в висках – в конце концов согласилась доставить ему удовольствие. Отравленный смертью услышал серебряную капель и захмелел от терпкого арпеджио. Только услышал? Или все же кое-что увидел?
– Нет, клянусь, – горячо возразила донья Лукреция, обняв мужа и спрятав лицо у него на груди. – Там было совсем темно. Я настояла. И Мануэль согласился. Он ничего не видел. Только слышал.
Не вставая с дивана, они послушали «Кармина Бурана» [79] в исполнении оркестра Берлинской оперы под руководством Сейдзи Одзавы [80] и пекинского хора.
– Будем считать, что так, – проговорил дон Ригоберто, умиротворенный звенящей латынью хористов (не затесался ли среди узкоглазых певцов кастрат?). – А что, если у твоего Мануэля феноменальное зрение? Даже если ты его не видела, это вовсе не означает, что он не видел тебя.
– Предполагать можно все что угодно, – не слишком уверенно возразила донья Лукреция. – Но ничего особенно интересного он все равно не увидел бы.
Это был, вне всякого сомнения, ее запах: телесный, интимный, слегка морской, с фруктовыми нотами. Закрыв глаза, дон Ригоберто жадно вдохнул его широкими ноздрями. «Так пахнет душа Лукреции», – подумал он с нежностью. Веселая струйка, сбегавшая в фаянсовую вазу, не перебивала аромат, а лишь оттеняла, напоминая о невидимой работе желез, изгибах хрящей, сокращениях мышц, испарения которых смешивались в один сильный, густой, привычный запах. Этот запах пробудил в доне Ригоберто далекие, смутные воспоминания о собственном младенчестве – мире пеленок и талька, экскрементов и отрыжки, одеколона, губок, пропитанных теплой водой, и материнской груди – и о ночах с Лукрецией. Теперь он понимал мотоциклиста-калеку. Впрочем, не обязательно было становиться кастратом вроде Фаринелли или попадать в чудовищную катастрофу, чтобы войти под эту сень, принять эту религию и, как отравленный Мануэль, как вдовец Неруда, как сотни тех, кто обладает обостренным слухом, обонянием и воображением (дон Ригоберто подумал о премьер-министре Индии, девяностолетнем Морарджи Десаи, который, выступая на публике, останавливался и отпивал немного собственной мочи: «А что, если бы это была моча его супруги?»), чтобы возноситься к небесам, сидя на корточках и наблюдая за мочеиспусканием, вещью, на первый взгляд совершенно обыденной, но способной превратиться в изысканное зрелище, ритуальный танец, прелюдию или послесловие (а для оскопленного Мануэля замены) любовного акта. Глаза дона Ригоберто наполнились слезами. В непроницаемой тишине барранкинской ночи, в окружении равнодушных картин и книг он с новой силой почувствовал всю глубину своего одиночества.
– Лукреция, милая, заклинаю, – взмолился он, целуя тяжелые локоны своей возлюбленной. – Помочись для меня.
– Прежде всего я должна убедиться, что, если закрыть двери и окна, в ванной будет по-настоящему темно, – заявила донья Лукреция, демонстрируя прагматизм завзятого сутяги. – Когда придет время, я тебя позову. Ты войдешь без единого звука, чтобы не сбивать меня. Сядешь в углу. И чтобы ни шороха. К тому времени четыре стакана воды уже начнут действовать. Запомни, Мануэль: не стонать, не вздыхать, не шевелиться. А то я сразу же уйду и больше никогда не переступлю порог твоего дома. Можешь оставаться в своем углу, пока я не встану и не приведу себя в порядок. Перед уходом ты приблизишься ко мне, опустишься на колени и в знак благодарности поцелуешь мне ноги.
Он так и сделал? Несомненно. Распростерся перед ней на каменном полу и с собачьей преданностью приник губами к ее туфельке. Потом, наспех умывшись, он последовал за Лукрецией в гостиную, чтобы сбивчиво, путаясь в словах, объяснить, какое счастье она ему подарила. Мануэль стал мечтать об этом задолго до аварии. Печальный инцидент лишь превратил пристрастие, которого он отчаянно стыдился и которое привык скрывать даже от самого себя, в единственный источник наслаждения. А началось все в раннем детстве, когда Мануэль делил комнату с младшей сестренкой, которая часто вставала по ночам, чтобы помочиться. Малышка никогда не закрывала за собой дверь; ее брат слушал хрустальное журчание и возносился на небеса. То было самое дивное, самое музыкальное, самое заветное воспоминание его детства. Славная, чудесная Лукреция его понимает, не правда ли? Славная, чудесная Лукреция понимала все. Ей не раз приходилось разматывать клубок чужих желаний. Мануэль об этом знал; он боготворил Лукрецию и лишь потому решился просить ее о великом одолжении. Если бы не трагедия с мотоциклом, он ни за что не отважился бы на такое. До рокового столкновения с грудой щебня его сексуальная жизнь была сплошным кошмаром. Ни одна приличная девушка не согласилась бы утолить постыдную страсть Мануэля, и ему приходилось иметь дело с проститутками. Но и нанимая женщин за плату, он был вынужден сносить унижения, терпеть их смешки, грубые шутки, иронические и презрительные взгляды, заставлявшие его чувствовать себя уличной грязью.
Вот почему Мануэль так часто менял женщин. Ни одна из них не соглашалась выполнить экстравагантную просьбу своего возлюбленного, на которую так легко откликнулась Лукреция: помочиться для него. Дон Ригоберто безжалостно расхохотался. Бедолага! Знали бы длинноногие красотки, что сохли по звезде спорта, королю мотокросса и наезднику железного коня, что герой их девичьих грез и не помышляет о том, чтобы обнять их, раздеть, поцеловать, уложить в постель, он хочет лишь одного: послушать, как они облегчают мочевой пузырь. И только благородная, царственная Лукреция согласилась помочь жалкому калеке Мануэлю! Вот поступок, подобный величайшим деяниям героев прошлого и молитвенным подвигам святых. Милая Лукреция! Лукреция, снисходительная к человеческим слабостям! Лукреция, что в переводе с латыни значит «счастливая». Лукреция? Дон Ригоберто перелистал тетрадь: «Лукреция, знатная римлянка, прославившаяся красотой и добродетелью. Подверглась насилию со стороны Секста, сына царя Тарквиния Гордого. Рассказав о своем позоре отцу и мужу и призвав их к мести, покончила с собой на глазах у родных, вонзив себе в сердце нож. Самоубийство Лукреции послужило поводом к изгнанию царской семьи и установлению Римской республики в 509 году до н. э. Образ Лукреции превратился в символ целомудрия и супружеской верности».
«Да это же она», – подумал дон Ригоберто. Его жена вполне могла бы погубить династию и стать символом. Верной жены? А почему бы и нет, верность не обязательно понимать по-христиански. Какая еще женщина стала бы так послушно и терпеливо исполнять любые капризы мужа? Никакая. А как же та история с Фончито? Лучше не ворошить это дело. В конце концов, все ведь осталось между ними? Как поступила бы его Лукреция на месте римской матроны, обесчещенной Секстом? Сердце дона Ригоберто сковало холодом. Он постарался прогнать видение распростертой на полу жены с ножом в сердце. Чтобы рассеять кошмар, дон Ригоберто заставил себя вернуться к размышлениям о мотоциклисте, которого возбуждало журчание женской мочи. Только женской? Или мужской тоже? Произвело бы тот же эффект зрелище какого-нибудь фонтанирующего кабальеро?
– Нет, – заявил Мануэль так искренне и твердо, что донья Лукреция сразу ему поверила.
Однако нельзя сказать, что его жизнь превратилась в сплошной кошмар из-за этого наваждения (не правда ли, подходящий эвфемизм для слова «извращение»?). В мрачной пустыне стыда и разочарований изредка попадались оазисы блаженства, словно награды за годы терзаний. Взять хотя бы прачку, лицо которой Мануэль помнил так ясно, как мы обыкновенно помним тетушек, бабушек или крестных, баловавших нас в детстве. Прачка приходила стирать два раза в неделю. Она, по всей вероятности, страдала циститом и то и дело отлучалась из прачечной в маленькую уборную для прислуги рядом с кухней. Мануэль прятался на чердаке, ложился ничком, прижимал ухо к щели в дощатом полу и слушал. Он ждал, когда обрушится шумный поток. Женщина была настоящей чемпионкой по мочеиспусканию, ходячим водохранилищем. Как-то раз – донья Лукреция заметила, как зрачки мотоциклиста расширились от возбуждения, – ему даже удалось подглядеть. Да-да, подглядеть. Правда, увидел он не много. Набравшись храбрости, мальчик залез на дерево напротив уборной для прислуги и, почти болтаясь в воздухе, несколько чудных мгновений мог наблюдать копну волос, плечи и обтянутые чулками ноги в туфлях без каблука сидевшей на унитазе женщины, которая с полным безразличием шумно опорожняла мочевой пузырь. О, какое это было блаженство!