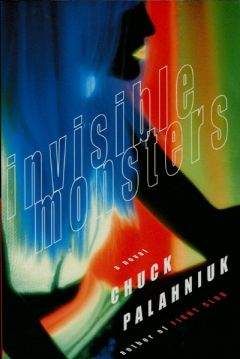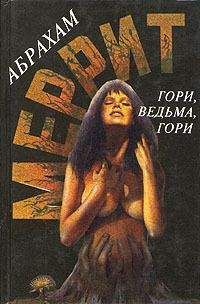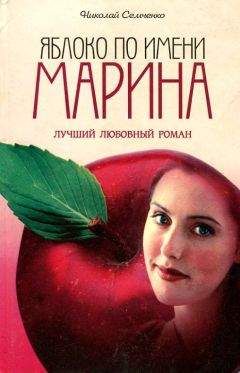Товары свои не открывали, поставив рядом укутанные да увязанные ведра, плетеные корзины, кастрюли. Но чуялось жареное да пареное, щекоча нюх.
Расселись возле Любаниного двора: кто за столом, в тени, а кто и на солнышке, кости погреть. Хозяйка вышла из дома и, оглядев, похвалила:
— Чисто Первомай или Октябрьский. Начапурились — и не угадаешь. Откель такие красивые? Либо из города?
— Тутошние мы, — отозвался Катагаров. — Дюже не боись.
Прибежали ребятишки своего, хуторского, чеченца Хамзата — Ахмет, Зарина и даже старший, уже подросток, Али.
Последним прибыл хромой Дорофеич, тоже не один, а с внучкой Раей, взрослой уже девушкой, с крашеными губками. Любанин сын Пашка тут же закружился рядом, включив приемник:
— Музыка у меня, Рая, музыка…
Пашка нынче был, как говорится, при параде: джинсы, белые кроссовки, яркая рубаха, чисто выбритый, с душистым ароматом. Жених женихом.
Гостей ждали долго, начиная покой терять:
— Может, заблудились?
— У них — карты! И вертолет впереди летит.
— А может, ушли напрямую, через Найденов хутор?
— Обозначен маршрут, — успокаивал Володя Поляков. — Значит, обязаны быть!
Ждали долго. А окончилось все очень скоро.
Прострекотал маленький вертолет низко над хутором и ушел.
— Будут! Приедут сейчас!
Засуматошились и потащили свои корзины да ведра к дороге, раскрывая и разворачивая каждый свое. И вот уже стояли рядком запотевшие банки квашеного молока и топленого, с коричневой пенкой, свежий каймак, а рядом — высокие белые пышки, поджаристые пирожки, плетеные корзины с яблоками и грушами, свежие яички, огурчики, помидоры… Не хуже, чем на станичном базаре…
Тяжелые пятнистые вертолеты прошли низко, оставляя за собой пыльный мусорный вихрь.
И понеслись друг за дружкою с ревом машины, словно из мешка.
Одна проревет; чуть стихнет, а вослед — другая. Ярко, диковинно разрисованные, с чужими буквами, каких не прочтешь. Грузовые и легковые и дуром орущие мотоциклы.
— «Мицубиси»! — кричал Володя Поляков. — «Катерпиллер»! Канадский «мэн»!
Ревели моторы.
Визжали чеченские ребятишки, а их сестренка, испугавшись, заплакала. Любаня ее на руки взяла, отойдя в сторону. «Не боись, моя хорошая. Не плачь, ну их к черту с такими гонками и с такой торговлей…»
О торговле и речи не могло быть. Машины пролетали, даже не притормаживая.
— Наш «КамАЗ»! — кричал Володя. — А это «вольво» немецкий! «Судзуки»! Голову наотрез!!
Но, слава богу, все кончилось. Последними проскочили две легковые, вроде наши гаишники. Прогудели, мелькнули на бугре — и нет их.
Такая тишина разом легла, что уши заложило. Играла тихая музыка, приемник Пашкин. И все.
— Вот это гонка! — восторженно ахал Володя Поляков. — Ралли так ралли!
— Пропади оно… — ругался Катагаров, обтряхивая пыль. — Бабка моя живая? — поискал он глазами старуху. — Слава богу, не увезли… Дорофеич… — позвал он ехидно. — Купец Иголкин, не стоптали тебя?.. Как барыш? — И рассмеялся, закашлявшись.
Дорофеич лишь сокрушенно в затылке чесал.
Собирали свои котомки, укладывались, вздыхая. Как всегда, вовремя сообразив, зашумела Любаня:
— По домам, что ли?! Как тараканы?! Стыду! Сроду раз собралися — и на побег? Правда, что дикими стали. Быстрее в нурё! А то не успеем! Паша! Неси стаканы да бутылку, на печке стоит, в домах. Садись, Катагаровна, сто лет тебя на лицо не видала. Сколь новостей! И ничего доброго. Тебе хоть пожалюсь, родная… Тем более нынче праздник престольный. Какой? Грешная Любаня. Поляк мне серушек да красноперок наловил. Дай тебя поцалую, моя сирота. Садитесь, родные. Поглядим друг на дружки, пока живые… Вон рукомойник. Обмойтесь, кого дюже припылили. Паша! Неси со двора большую скамейку!
После таких речей не уйдешь. Да ведь и впрямь прежде в магазине встречались, потом у автолавки. А нынче лишь смерть собирала.
Расселись. Дощатый стол, словно майский луг, расцвел помидорной да яблочной алостью, белизной вареной картошки да яичек, солнечной желтизной каймака.
Чеченских ребятишек угостили пирожками да вареными раками, они умчались, довольные.
А за столом выпили по рюмке и заговорили о гонках.
— Мне один помахал, — похвалилась Любаня. — Чернявый такой, зубатенький…
— Ты сроду цыганов любила… — припомнил ей былые грехи Катагаров.
Любаня лишь вздохнула.
— Наш «КамАЗ» может всех победить, — доказывал Володя Поляков. — Это особая сборка, каждый болтик проверенный.
— Сколь техники… — сокрушенно качал головой Дорофеич. — Без дела мыкаются. А нам муки не на чем привезть. Ездили бы и попутно по хуторам товары возили.
— Керосину, кричи, надо…
— И керосин можно привезть. Такая мочь, а гоняют порожняком.
Но скоро про гонки забыли. Что в них? Просвистели — и нету. Чужое.
— Помните, как при совхозе гуляли? На Майские праздники, на Октябрьские.
Любаня дишканила:
— А праздник урожая? На току столы ставили, в клубе не умещались. Сколь же было народу?..
Начинали считать — и сбивались. Вспоминали уехавших и в иной мир ушедших. Сколько их… Целый хутор ушел, оставив после себя это тесное застолье. Куда ушел? И зачем?
Ой да сон мой милай,
Сон счастливай!
Ой, воротися, сон, назад!
Пели как в годы старинные. И горько было до слез, и тепло на душе.
Лишь молодым, Пашке да внучке Дорофеича, Рае, о прошлом не было нужды вспоминать. Они жили нынешним, сидя рядом и слушая музыку.
— А ты любишь Земфиру?
— Люблю.
— А я еще Алсу люблю. Она хорошая. Я три песни ее выучила, — похвалилась Рая и запела.
Голосок ее звучал негромко, да еще люди мешали. Пришлось молодым уйти от застолья.
Дорофеич заметил уход внучки, но не стал ее трогать. Молодая… Пашка хоть и с глупцой, но парень спокойный, работящий. Где другого возьмешь?.. Разве лучше, если сманят девку какие-нибудь абреки? Побалуют — и бросят. Сколько таких случаев…
Каким ты был, таким остался,
Казак донской, казак лихой!
Зачем, зачем ты повстречался,
Зачем нарушил мой покой!
Сидели долго и ладно, нехотя разошлись лишь к делам вечерним, которых не отставишь в хуторском быту.
И прощались долго, понимая, что такая встреча будет теперь не скоро. Пашка провожал Дорофеича с Раей, веселя их музыкой. А Надя Горелова с Володей Поляковым поднялись от застолья вместе и, миновав поляковскую усадьбу, дальше пошли. Такой уж выдался день, сердцу милый, отогрелась душа. И зачем ей стыть в одиночестве, тем более что зима впереди. Заметет, занесет, не то что людей, света божьего не увидишь до самой весны.
Теперь еще было лето — жаркий день, а потом — долгий вечер. Но в долине, где речка текла и лежал хутор, темнело быстро. На окружных холмах да курганах долго светит вечерняя заря, разливаясь по небу алым да розовым. Внизу зелень приречной уремы быстро темнеет; клубятся и густеют сумерки; и прежде вечерней звезды пробивается неяркий светляк лампы или багровый зрак открытого зева дворовой печурки, на которой греется ужин, а после будет долго, до красноватой пенки, томиться молоко в круглом казане.
Неспешный степной ветер на высоте курганов даже в пору вечернюю свежеет, понизывает, а потом замирает в тихой долине, словно боясь погасить тихие огни и развеять по миру запах кизячного дыма, теплого молока, хлебного печева.
Татьяна Татьяна
Торопливые сны
Татьяна Татьяна Анатольевна — поэт, прозаик, эссеист, автор нескольких лирических сборников. Многие стихотворения переведены на европейские языки. Живет в Санкт-Петербурге.
* * *
Огнедышащая оттепель
Плавит ледяные сны.
Ах, Вертинский, ничего теперь
Нам не жаль: ни белизны,
Обнимавшей ветки серые,
Прижимавшейся к щеке,
Ни пурги, что просо сеяла,
Прораставшее в руке.
Под небесною коростою
Пролетает, мельтеша,
Снега, тающего в воздухе,
Нерожденная душа.
* * *
Я хочу сказать, что кожа твоя смугла
И без солнца, — мой рот заливает мгла,
Будто день потух:
А на самом деле ты замыкаешь слух,
И слова, вздохнув, поворачивают обратно,
Как прозрачные тени, когда пропоет петух.
Задыхаясь, летит над пропастью птица Рух,
Чтобы не рухнуть, — склюет седока, и ладно.
Из лабиринта выведет Ариадна
Старца — вместо кудрей — тополиный пух:
Время сбивается с мысли, считает мух
И на месте кружится многократно.
Я хочу сказать, как губы твои темны,
Как на плече твоем торопливы сны,
Как прильнула бабочка к занавеске,
Как по белым обоям стекает свет,
Обнаженный сдвоенный силуэт
Уподобив фреске.
Я хочу сказать — но не слышишь, нет,
И слова срываются, словно с лески
Рыбы — падая снова в пруд,
Где к зиме замерзнут они, умрут,
По себе оставив круги и всплески:
Если речь к тебе не обращена,
То она, конечно, обречена.
Ты глядишь на часы и садишься резко.
* * *
Cнег умер и воскрес —
И прямо в сердце мне
Спускается с небес
В холодной тишине
Ольховый ствол кривой,
Увечных трав мятеж —
Прозрели от его
Блистающих одежд.
И за его спиной
Прохожие идут —
Не то в ларек пивной,
Не то на Страшный Суд.
* * *
Раз слова виновны — значит, они уйдут
В изгнание. Ты произвел свой суд —
И они потянулись растерянной вереницей,
Словно пленники в Вавилон.
Хоть бы напиться и погрузиться в сон,
Чтоб не видать их лиц, не шептать имен,
Но не берет алкоголь, не спится.
Слова уходят. Вышел их провожать туман,
Звезды высыпали, у обочин
Столпились травы, причитания по кустам
Побежали, негромко, впрочем.
Слова уходят, не поднимая взор
От стыда, — конечно, один раздор
От них — и поделом изгоям.
Они, как дым, рассеются до утра,
Не потревожив ни твоего шатра,
Ни домочадцев, не погасив костра, —
Можешь быть спокоен.
* * *
Скрещены кости проспектов — белым-белы,
Ветром обглоданы, бешеным, словно волк,
Серые крыши — зубья тупой пилы —
В сердце врезаются. Выпьем — а будет толк
Или не будет, сможет ли алкоголь
Перенести через огненную реку,
Став ковром-самолетом, — и через боль,
Скорость развив, — сказать тебе не могу.
Быстро откупорив тайную дверь, — глоток
Выпьем, пока не заметила нас сама
Старая ведьма, мотающая клубок
Пухлого снега в темном углу, — зима.
* * *
Здесь, у берега пустого
С хриплым лесом на краю,
Все, что я имею, — слово —
Слышишь, Боже, — отдаю:
Лишь бы тот, кто стал мне светом,
Жизнью, обмороком, тьмой,
Ничего не знал об этом,
Тихо говорил со мной,
Лишь бы плоть его живая
Проросла во мне зерном,
Лишь бы я, земля сырая,
Стала хлебом и вином.
* * *
Благословенны, Господи, Твои луга,
Даже с сеном, загубленным на корню,
Благословенны отвесные берега
Оредежа, закованные в глиняную броню,
С купальщиками в ледяной воде.
Благословенны монотонные, как стихи,
Тополя у дороги, старик с соломиной в бороде,
Благословенны, Господи, Твои лопухи,
Прихотливыми храмами стоящие вдоль шоссе,
Желтая пижма, седая крапива, чужой сад
За новым забором, благословенны все
Слова, что нам любимые говорят,
Даже когда, говоря, убивают нас.
Благословенна, Господи, ветреная заря,
Несмотря на слезы, льющиеся из глаз,
Или скорее благодаря.