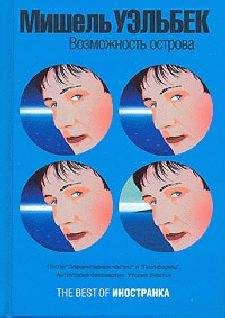В середине января мне пришлось на несколько дней съездить в Париж; Францию накрыла волна сильных холодов, каждое утро на тротуарах находили замёрзших бомжей. Я прекрасно понимал: они не идут в открытые для них приюты, не желают жить среди себе подобных; это дикий мир, населённый людьми жестокими и тупыми, у которых тупость каким-то особенно мерзким образом усиливает жестокость; мир, не знающий ни солидарности, ни жалости: драки, изнасилования, пытки — самое обычное здесь дело; мир, фактически такой же беспощадный, как тюрьма, с той лишь разницей, что надзиратели в нём отсутствуют, а опасность присутствует всегда. Я навестил Венсана, у него было натоплено и душно. Он вышел ко мне в халате и в тапочках, часто моргал и не сразу сумел нормально заговорить; за последнее время он ещё похудел. По-моему, я был первым его гостем за долгие месяцы. Он сказал, что много работал у себя в подвале, нет ли у меня желания взглянуть? Я почувствовал, что это выше моих сил, и, выпив чашку кофе, ушёл; он по-прежнему жил в своём волшебном, придуманном мире, и я понимал, что этот мир больше никто никогда не увидит.
Поселился я в отеле у площади Клиши, а потому, пользуясь случаем, прошёлся по секс-шопам, купить для Эстер бельё секси: она говорила, что обожает латекс, а ещё ей нравятся капюшоны, наручники, много цепей. Продавец оказался необычно компетентным, и я спросил у него совета по поводу своей преждевременной эякуляции; он рекомендовал новинку, немецкий крем со сложным составом — туда входил сульфат бензокаина, гидрохлорид калия, камфара. Крем следовало нанести на головку члена перед половым актом и тщательно втереть, чтобы он впитался; в результате чувствительность понижалась, и оргазм и эякуляция наступали значительно позже. Я опробовал его сразу же по возвращении в Испанию — и добился полного успеха: я мог входить в неё часами, единственное, что мне мешало, это сбитое дыхание; впервые в жизни мне захотелось бросить курить. Обычно я просыпался раньше неё и первым делом начинал её лизать, её влагалище быстро увлажнялось, и она раздвигала ноги, позволяя мне войти: мы занимались любовью в постели, на диванах, в бассейне, на пляже. Быть может, кто-то так живёт годами, но я прежде никогда не знал подобного счастья и спрашивал себя, как я вообще мог жить до сих пор. У неё от природы были гримаски и жесты слегка испорченной девчонки (вкусно облизывать губы, сжимать в ладонях груди, протягивая их вам), возбуждающие мужчин до крайности. Находиться в ней было бесконечным наслаждением, я чувствовал каждое движение её влагалища, сжимавшегося, то легко, то посильнее, вокруг моего члена, целые минуты напролёт я кричал и плакал одновременно, перестав понимать, где я и что со мной, иногда после того как она отстранялась, вдруг оказывалось, что все это время играла громкая музыка, а я ничего не слышал. Мы редко выходили из дома, иногда отправлялись в Сан-Хосе, выпить коктейль в лаундж-баре, но и там она скоро придвигалась ко мне, клала голову мне на плечо, её пальцы сжимали мой член сквозь тонкую ткань, и часто мы тут же отправлялись любить друг друга в туалет — я перестал носить нижнее бельё, а она никогда не надевала трусов. Для неё действительно не существовало почти никаких запретов: иногда, если мы были в баре одни, она, стоя коленями на ковре между моих ног, сосала и одновременно допивала мелкими глотками коктейль. Однажды нас застал в таком положении официант; она вынула мой член изо рта, но не выпустила из рук и, подняв голову, широко улыбнулась, продолжая ласкать меня двумя пальцами; он улыбнулся в ответ, положил в карман чаевые, словно так и надо, так и договаривались, на все давно получено разрешение сверху и моё счастье тоже включено в общее устройство системы.
Я жил в раю и был отнюдь не против обитать там до конца дней, но через неделю ей пришлось уехать из-за своих уроков фортепьяно. В день её отъезда, рано утром, пока она ещё не проснулась, я тщательно намазал головку члена немецким кремом; потом встал на колени над её лицом, откинул длинные белокурые волосы и ввёл член между её губ; она начала сосать прежде, чем открыла глаза. Позже, за завтраком, она сказала, что вкус моего члена, более выраженный после сна, в сочетании со вкусом крема напомнил ей кокаин. Я знал, что многие, вдохнув, любят слизывать оставшиеся крупинки порошка. И тут она объяснила, что на некоторых вечеринках девушки играли в такую игру — делали себе дорожку кокаина на члене кого-нибудь из присутствующих парней; вообще-то сейчас она на такие вечеринки уже почти не ходит, это было лет в шестнадцать-семнадцать.
Я ощутил довольно болезненный удар; мечта любого мужчины — встретить испорченную девчонку, невинную, но готовую на любое извращение; собственно, таковы почти все девочки-подростки. Со временем женщины постепенно входят в разум и тем самым обрекают мужчин вечно ревновать к их развратному прошлому испорченной девчонки. Отказываясь делать что-то только потому, что это вы уже делали, что этот опыт уже приобретён, вы лишаете и себя и других всякого смысла жизни, всякого будущего и погружаетесь в тягостную скуку, которая в итоге превращается в жестокую тоску, смешанную с бессильной яростью и ненавистью к тем, кто ещё жив. По счастью, Эстер нисколько не вошла в разум; и всё же я не удержался и спросил о её сексуальной жизни; как я и ожидал, она ответила без всяких увёрток, очень просто. В первый раз она занималась любовью в двенадцать лет, после дискотеки, во время языковой стажировки в Англии; но это ровно ничего не значило, сказала она, так, отдельно взятое приключение. Потом примерно года два не было вообще ничего. Затем она начала выезжать за пределы Мадрида, и тут действительно происходили всякие вещи, она по-настоящему узнала любовные игры. Да, несколько групповух. Немножко садомазо. Девушек не так уж много: её сестра была законченной бисексуалкой, но сама она нет, ей больше нравились парни. На свой восемнадцатый день рождения ей впервые захотелось переспать одновременно с двоими, и воспоминания у неё остались самые приятные, парни были в хорошей форме, эта любовь втроём даже имела продолжение, постепенно парни поделили между собой обязанности, она ласкала и сосала их обоих, но один обычно брал её спереди, а другой сзади — наверное, это ей нравилось больше всего, у него действительно получалось очень сильно, особенно когда она покупала попперсы. Я представил себе, как она, юная хрупкая девушка, ходит по мадридским секс-шопам и спрашивает попперсы. Когда распадаются общества со строгой религиозной моралью, вначале наступает короткий идеальный период — молодёжи в самом деле хочется жить отвязно, свободно и весело; потом она устаёт, мало-помалу состязание в нарциссизме выходит на первый план, и в результате они трахаются реже, чем во времена строгой религиозной морали; но Эстер ещё принадлежала этому короткому идеальному периоду: в Испании он запоздал. Она была так простодушно, так откровенно сексуальна, с такой готовностью предавалась любым играм, любым экспериментам в сексуальной сфере, даже в мыслях не имея, что это может быть нехорошо, что я не мог по-настоящему на неё сердиться. Меня только преследовало неотступное, мучительное, болезненное чувство, что я встретил её слишком поздно, чересчур поздно, и зря прожил жизнь; я знал, что уже никогда не избавлюсь от этого ощущения — просто потому, что это правда.
В следующие недели мы виделись очень часто: я проводил в Мадриде практически все уикенды. Спала она с другими парнями в моё отсутствие или нет — не имею понятия, думаю, что да, но мне довольно легко удавалось выбросить эту мысль из головы, во всяком случае, для меня она всегда бывала свободна и рада меня видеть, а любовью занималась так пылко и безоглядно, что о большем я не мог и мечтать. Мне даже не приходило (или почти не приходило) в голову задаться вопросом, что такая красавица, как она, во мне нашла. В конце концов, я был забавный, со мной она часто смеялась; наверное, только это меня и спасало сейчас — как тридцать лет назад, с Сильвией, когда началась моя любовная жизнь, в общем и целом не слишком удачная, с долгими периодами угасания. Её, безусловно, не привлекали ни мои деньги, ни моя известность: всякий раз, когда меня при ней узнавали на улице, она испытывала скорее чувство неловкости. Ей не нравилось и когда её саму воспринимали как актрису — такое тоже случалось, хоть и не часто. Она абсолютно не считала себя артисткой; большинство артистов находят вполне естественным, что их любят за известность, в конечном счёте именно потому, что известность сделалась частью их самих, их подлинной, настоящей личности — во всяком случае, той, какую они сами для себя выбрали. Люди же, которые соглашаются, чтобы их любили за деньги, наоборот, встречаются редко, по крайней мере на Западе: у китайских коммерсантов все иначе. Китайские коммерсанты в простоте душевной считают, что их «мерседесы» класса S, ванны с гидромассажем и вообще их деньги — это часть их самих, их глубинной личности, а потому отнюдь не считают зазорным разжигать энтузиазм юных девушек с помощью подобных материальных атрибутов: они так же прямо, непосредственно связаны с ними, как какой-нибудь европеец — с красотой своего лица, и, по сути, имеют на это даже больше прав, поскольку при относительно стабильной политико-экономической системе человек нередко лишается своей физической красоты из-за болезни и неизбежно утрачивает её в старости, зато виллы на Лазурном берегу и «мерседесы» класса S, как правило, остаются при нём. Но я-то был невротик-европеец, а не китайский коммерсант, и в своей сложности душевной предпочитал, чтобы меня ценили за юмор, а не за мои деньги и даже не за мою известность — потому что отнюдь не был уверен, что на протяжении всей своей долгой и активной карьеры отдавал ей лучшую часть самого себя, исчерпал все грани своей личности; я не был настоящим артистом в том смысле, в каком, например, Венсан был художником, поскольку в глубине души всегда знал, что в жизни нет ничего смешного, но не желал принимать это в расчёт; всё-таки я был немножко проституткой, потакал вкусам публики, никогда не бывал по-настоящему искренним — если предположить, что это вообще возможно, но я знал, что нужно это предполагать, что хоть искренность сама по себе и ничто, она всё же условие и предпосылка всего. В глубине души я прекрасно понимал: ни один из моих несчастных скетчей, ни один из моих жалких сценариев, состряпанных механически, на живую нитку, с ловкостью поднаторевшего профессионала, на потребу публике, состоящей из подонков и обезьян, не заслуживает того, чтобы меня пережить. Иногда эта мысль становилась мучительной; но я знал, что сумею и её довольно быстро выбросить из головы.