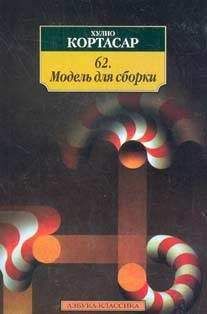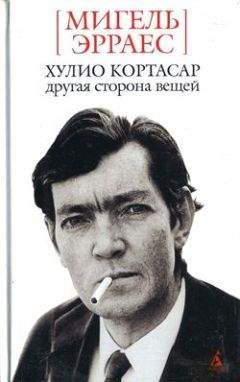В итоге пойти в музей согласились Николь и Калак, а Марраст должен был к ним присоединиться, как только глыбе антрацита будет обеспечена зеленая улица. Мой сосед расплатился, произвел деление и неумолимо собрал с каждого его долю, объявив, что чаевые за его счет. Музей был почти пуст, и, глядя, как немногие посетители, почти не задерживаясь во втором зале, проходили, как и следовало ожидать, к Гогену и Мане, Калаку стало смешно, что Марраст так тревожился насчет наблюдения; но когда Николь и он уселись на диване и прошло несколько минут, внимание Калака привлек тот факт, что в зале было целых три смотрителя, глядевших как-то слишком настороженно, хотя у картин этого зала никто не останавливался. Сидеть на диване было вполне удобно, только вот курить запрещалось, и Николь, как обычно, была грустная, рассеянная. В какую-то минуту, хоть и зная все, Калак спросил, почему она такая.
– Ты, наверное, и сам понимаешь, – сказала Николь. – Что тут рассказывать, просто все идет очень плохо, и мы не знаем, что делать. Хуже того, мы очень хорошо знаем, что должен делать каждый из нас, и не делаем этого.
– Что ж, значит, надежда? Эта шлюха в зеленом?
– Ах, я уже давно ни на что не надеюсь. Но Map на свой лад надеется, и тут моя вина. Я остаюсь с ним, мы смотрим друг на друга, мы спим вместе, и вот он каждый день все ждет чего-то большего.
Из лифта вышли четыре человека, напоминавшие повадкой быков на арене, они озирались, ничего не видя, сосредоточенно составляли план осмотра: вначале стена слева с примитивистами, затем натюрморты на противоположной стене – и вдруг обнаружили явную тенденцию пройти вереницей во второй зал, где они безошибочно устремились к портрету доктора Лайсонса, Д. Г. П., Д. М.
– Как пить дать это невротики, – сказал Калак. – Они друг друга не знают, но мы, словно око господне, сразу отличаем званых от избранных. Мамочка моя, кидаются на этот гермодактилус ну прямо как мошкара, тучей.
– Уйти должна была бы я, – сказала Николь. – Но только уйти по-настоящему, не оставляя следов. Тогда он бы исцелился. Как видишь, план превосходный, но осуществить его куда труднее, чем пережить то, что теперь с нами происходит и что можно назвать чистейшим безумием.
– Верно, дорогая, ты изрекла бессмертную истину. А вот подходят еще двое, обрати внимание, прямо видно, как у них усики шевелятся, по выражению одной моей родственницы из Вилья-Элисы. А в той кучке, что сейчас выходит из лифта, по меньшей мере трое – невротики. Видишь ли, Николь, если ты перестала его любить – ты только пойми меня правильно, когда я говорю «любить», я не имею в виду питать нежность или быть к нему доброй и прочие приятные заменители, высшее достижение нашей цивилизации, – если ты перестала его любить, тогда я не понимаю, почему у тебя не хватает духа уйти.
– Да, конечно, – сказала Николь. – Это ведь так легко, правда?
– Не говори чепухи. Я очень хорошо понимаю, сколько сложностей.
– Вот если бы и мне прислали письмо, – сказала Николь. – Анонимное письмо с советом, например сделать то-то и не делать того-то. Смотри, как они разглядывают эту картинку и как всполошились смотрители. Каждый знает точно, что ему делать, потому что все получили анонимки, кто-то извне их толкает, без всяких объяснений.
– Без объяснений? – переспросил Калак. – Ох, будь они прокляты, почему тут нельзя курить. А ты никогда не задумывалась, почему Марраст напрасно теряет время на то, что ты изволила назвать чистейшим безумием? Прошло уже два месяца с лишним, как он должен был начать работу над заказанной статуей. И вот, пожалуйста, он еще и нас заставляет терять день на этом диване, похожем на лохматого пса.
Николь ничего не ответила, и у Калака создалось впечатление, что она отказывается думать, что она все глубже уходит в угрюмое молчание.
– Был бы я моложе лет на пятнадцать да имей чуть поболе фунтов стерлингов, я бы увез тебя в Хельсинки или куда-нибудь еще, – внезапно сказал Калак. – Просто так, совершенно по-дружески, ясное дело, только чтобы дать тебе тут дополнительный толчок, которого, по-твоему, тебе не хватает. Нет, ты не смейся, я вполне серьезно. Хочешь, отправимся в путешествие вместе или я провожу тебя на поезд и передам пачку карамелек через окно? О дуреха, да не смотри на меня так. Я тут не в счет, я, так сказать, готов играть вспомогательную роль, как если бы ты была персонажем одной из моих книг, а я бы тебя любил и хотел бы тебе помочь.
– Ты отлично знаешь, – сказала Николь так тихо, что Калак с трудом расслышал, – что на какой бы поезд я теперь ни села, он повезет меня в Вену, а я туда не хочу.
– А, понял. Ну и ну, никакой слаженности действий. Погляди вон на ту толстуху, она притащила нечто вроде инкунабулы, чтобы изучать растение, – наверно, это и есть та самая любительница ботаники, о которой говорил мой сосед. Эге, теперь, кажется, что-то начинается, глянь, как нервничают смотрители, бедняги не знают, что делать. Весь зал пуст, и только эти типы толпятся вокруг дурацкого растения, нет, это невероятно. Ты сказала – в Вену? Раз уж ты почтила меня своим доверием, признаюсь – я спрашиваю тебя, знаешь ли ты, что Хуан переживает примерно то же самое?
– Да, знаю, как же мне не знать, – сказала Николь. – Я-то не могу себе представить, что его кто-то не любит.
– И все же это так, крошка, и если поезд, о котором ты сказала, пришел бы по назначению с тобою на борту, ты бы нашла, что Хуан в свою очередь тоже мечтает вскочить в поезд, направляющийся в Париж, но не делает этого по той же причине, по какой вы, сударыня, не едете в Вену, и так далее. Играть в уголки, знаешь, очень занятно в восемь лет, но позже это может довести до отчаяния, вот так мы и живем. Обрати внимание на того смотрителя, самого тощего, у него, видно, есть приказ записывать точные приметы наиболее подозрительных, бедняга уже исписал две тетрадки – я точно помню, что в прошлый раз у него была тетрадка с обложкой другого цвета, разве что они каждый день меняют цвета, как делали ацтеки. Хочешь, расскажу тебе про ацтеков?
– Я не буду плакать, – сказала Николь, сжимая мне руку повыше локтя. – Не глупи, и не надо мне рассказывать про ацтеков.
– О, это тема, в которой я знаток, хотя, конечно, там про Вену ничего не будет. А насчет того, что ты не станешь плакать, спрячь сейчас же свой платок и не будь дурочкой. Бог мой, – только подумать, что Марраста, можно сказать, воспитали Поланко и я и что мы лишали себя почти всех радостей жизни ради этого кретина! И для этого покинул я свою родину? Толпы эссеистов и критиков осыпают меня горькими упреками, а я тут вожусь с этими недотепами. Да, Остин прав, вам надо записаться в партию, в любую партию, но главное, в партию, приносить, черт побери, какую-то пользу, эх вы, кучка мандаринов.
Он был в таком бешенстве и в то же время так явно старался меня развеселить, что я высморкалась, спрятала платок, и попросила у него прощения, и поблагодарила за карамельки, которые он мне передаст в окно, и сказала, что больше всего люблю мятные. Нам обоим было чуточку стыдно, и мы смотрели друг на друга, беззащитные, как всякий цивилизованный человек, когда он не может закурить сигарету и укрыться за привычными жестами, за завесой дыма. Ну словно голые сидели мы на этом диване, на который с завистью взирали невротики из разных углов зала.
– Не знаю, что я буду делать, – сказала я. – Для окружающих, как всегда, все ясно. Но потом приходит Map, и, понимаешь, каждый день – это повторение вчерашнего дня, да, ты прав, шлюха в зеленом платье.
– От него тебе нечего ждать, – сказал Калак. – Он ничего не сделает, чтобы решить вашу проблему. Разве что, думая, что ничего не делает, он…
Тут я взглянул на смотрителя, который, кое-как примостясь, писал в своей тетрадке; я остановился на середине фразы, потому что не мог ее продолжить, и странным образом, мы оба остановились – смотритель перестал писать, а я говорить – и в одно и то же мгновение мы издали посмотрели друг на друга с досадливым и озабоченным видом людей, не знающих, как продолжать, и, однако, подозревающих, что в продолжении-то самая суть, как в финале снов, вмиг забываемых, когда именно в нем-то и должен быть ключ, ответ на все. «Разве что, думая, что ничего не делает, он…» Мне очень хотелось знать, что там пишет смотритель и на каком месте какой фразы он тоже остановился. Но в конце-то концов, на кой черт мне улаживать проблемы этой женщины? Было очень легко сказать ей, что лично я в этом деле в счет не иду, что я помог бы ей исключительно по-дружески, потому что Марраст для Поланко и для меня был как бы сыном, а следовательно, она – любимой дочуркой, но я был более чем уверен, что, когда я это сказал, в тот миг, когда я сказал: «Я тут не иду в счет», я высказал – невольно или даже с умыслом, но от всей души – то, что Николь прекрасно знала и что было глупо, и неизбежно, и не ново, и так грустно, словом, что я ее люблю чуть побольше, чем милую дочурку, и мне было бы вовсе не легко увозить ее в Хельсинки только в качестве доброго дядюшки, желающего развлечь свою заскучавшую племянницу.