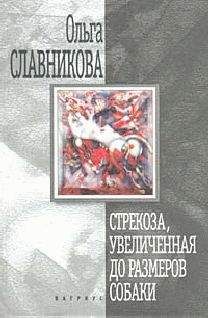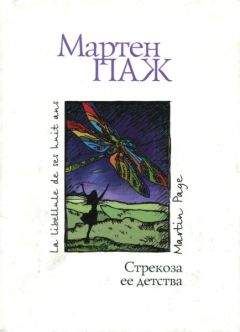Некоторое время, заглушив мотор, Иван недвижно горбился в седле. Его лицо было мокро и бледно от воды, по напряженному лбу, шевелясь, сползали капли. Снаружи сыпануло, притихло, налетело опять, с поперечины порот побежали, перекручиваясь, перекидываясь, хлестко стравливая петли, водяные толстые жгуты. Вокруг, насколько можно было разглядеть, темнели низкие растоптанные кучи старого сена, пахнувшего лежалой чайной заваркой. В углу, с прислоненными к ней лопатами, не достигаемая молниями, белела собственной белизной небольшая Венера, изрядно побитая. Старый, нежно закопченный от времени мрамор был на грубых сколах как наждак; на губы и соски богини кто-то посадил по ягоде масляной киновари, а в низу живота прямо по драпировкам намазал черный треугольник, каким мальчишки на военных рисунках изображают взрывы: то была безрукая Венера с одной из самых тайных открыток Катерины Ивановны, до начала жизни которой оставалось каких-то полчаса.
Софья Андреевна неловко выбралась из коляски и едва не упала, ступив на затекшую ногу: скрежетнул на земляном полу задвинутый под бесколесный мотоцикл, будто под ванну, тазик с тряпьем. Софье Андреевне вдруг показалось, что этот гараж похож на тот сарай и одновременно на чуланку, куда ее поместили с дочерью,– будто она находится в одном и том же месте и спит и никакого Ивана нет, а скоро ей вставать на утренний автобус.
Однако говорливый и плотный Иван, паливший, как топка, папиросу за папиросой, вовсе не собирался растворяться в воздухе. Напротив, он оживился и вдруг заговорил о дочери: с торжественной серьезностью заявил, что дочь уже взрослая, что их можно спутать с матерью, если одинаково одеть. Потом он страшно засмущался и с перекошенной улыбкой полез по тесным карманам, извиваясь и проникая до таких глубин, будто самого себя пытался вывернуть наизнанку. Софья Андреевна не сразу поняла, что он собирает деньги: к плотненькой трубке, приготовленной заранее и выложенной к фаре на яркий стол, прибавляет бумажки и монеты, извлекаемые наружу ерзаньем застрявшей пятерни вместе с ущемленной подкладкой, извергавшей дополнительно снежную струйку опила, которая бесследно рассыпалась над землей.
Собрав, что смог, распотрошив и жесткую курточку, лежавшую на мотоцикле, он протянул жене неполную горсть, а когда она отпрянула на шаг, насильно вывалил ей в руку брякнувшее достояние. Он бормотал про дочь, веля купить для нее кримплен и лодочки на шпильках, обещая еще прислать на сапоги,– вероятно, ему казалось, что он набрал с себя не меньше ста рублей, но Софья Андреевна, осторожно разжав кулак и опустив глаза, увидела лишь картофельную шелуху рублевок да черную медь, среди которой самый большой кругляш оказался пальтовой пуговицей. Софья Андреевна не знала, как ей быть. Отказаться от денег значило поощрить разгульную жизнь Ивана, узаконить его прошлые и будущие неплатежи,– но и принять ничтожный взнос казалось просто смешно, как будто Софья Андреевна заслужила только этого, как будто это компенсирует ее страдания и траты. Самый вид пожертвованных денег, буквально оторванных Иваном от себя и сальных, будто ношеное нижнее белье, нищенский сброд несосчитанной мелочи, изъеденные копейки и жалкие рубли, кричащие, что отдано последнее,– все это требовало от Софьи Андреевны подобреть, простить на время прочие долги. Выходила удивительно дешевая цена, а главное, тут крылась нестерпимая фальшь, потому что дочь имела все условия успевать на пятерки, а Иван трудами Софьи Андреевны сэкономил на автомобиль и жил, пожалуй, даже слишком хорошо, вроде божьей птички голубя, из тех, что стонущими кучами купаются в помойках. Сжимая деньги, которые все равно нельзя было потратить и можно было только спрятать, чтоб не мучили, в тайник, Софья Андреевна чувствовала себя примерно так же, как на празднике, когда девчонка, тихо и грузно протиснувшись в кухню, принималась ставить перед ней то тут, то там грязную акварельку со старушечьими личиками цветов, неотступно глядя на мать с выражением какой-то отрешенной жестокости. Такая ситуация вынуждала Софью Андреевну выдать, высказать обиду, которую она обыкновенно прятала, как иные прячут радость, чтобы не проматывать ее в пустых словах. Вот и теперь она заговорила – словно по принуждению, отлично зная, что Иван, как и дочь, не раскается, что стой она перед ним больная, босая, в бедняцкой кофте (которую от обиды каждый год надевала на Восьмое марта, а перед этим, с особенным учительским чувством подготовки к мероприятию, простригала в кофте дырки на засквозивших местах и штопала их заметной ниткой),– хоть упади она замертво на землю, даже и тогда Иван только покривился бы в раздражении. Зато он теперь не мог ее перебить, только нахватывал выпяченной грудью побольше воздуху, его забытая улыбка висела криво, как подшибленная картинка на стене.
Если бы не деньги, Софья Андреевна никогда бы не припомнила ему, что в конечном счете это он завез ее в сарай с Венерой и добровольно сделался причиной многих следствий, вплоть до сегодняшнего нападения разряженной шпаны. Она бы охотней держала это в себе, как потаенное сокровище. О, она имела право каждый свой убыток соединить с тем днем отчетливой чертой и наслаждаться чистой геометрией обиды, как иной бы наслаждался музыкой. Обида, пронизав и выстроив её простую и осмысленную жизнь, превратила ее в совершенство, подобное чуду архитектуры или хрустальной глыбе, где в твердой и ясной глубине силою обиды сохранялись драгоценные, щемящие подробности. Холодный, майский, яблоневый запах молний посреди июньской жары, и как от голого двора, где текла и плясала бешеными свечками жидкая грязь, внезапно потянуло весной, и как по этому двору, выхлестывая сапожищами фонтаны, сутуло мотаясь, придерживая на себе изнутри стрекочущий прозрачный дождевик, пробежал веселый человек с намокшей бородой, и его дождевик трещал, когда на человека с маху налетала белая гуща ливня. Может быть, Софья Андреевна мучилась как раз потому, что не могла словами передать особую значительность своих воспоминаний, безукоризненную логику событий, начавшихся со скособоченного спуска на проселок и стройно дошедших, ни единой линией не увильнув в непроницаемое прошлое, до сегодняшнего дня. Она никак не могла договориться до главного. Обида, питая собою воспоминания сильнее иной любви, искажала их несколько иначе, чем любовь: вся обстановка того события так укрепилась в памяти Софьи Андреевны, что, случись ей увидать хоть на другой же день колоннаду, сарай, мешки в сидячих позах в глубине сарая, она бы сочла их худшей, чем у нее в голове, копией с подлинника, неизвестно куда пропавшего. Так что теперь она свободно возвращалась на место преступления и в этих снах наяву была, как ни странно, скорее Иваном, чем собой,– Иваном предусмотрительным, хитрым, бормочущим сквозь зубы, что он всего лишь развлечется и не будет ни за что расплачиваться,– при этом плоские губы Софьи Андреевны искажались зловещей усмешкой. Себя же Софья Андреевна почти не помнила – ей чудилось, что она как раз норовила спрятаться, ускользнуть в боковую тень, а Иван не давал.
Ей, например, казалось, что еще на проселке она пыталась ухватиться за какие-то, что ли, ветви, остановить мотоцикл. Потом у нее сложилось ощущение, что она по рвущимся, ячеистым сетям залезала под крышу, полную влажных шорохов и перестуков,– в действительности на стене была развешана иссохшая упряжь, и никуда Софья Андреевна не лезла, а осторожно выбралась из коляски и, подстелив себе воздушный на высоком колком сене носовой платок, села так, чтобы Ивану была видна ее склоненная фигура, которой Софья Андреевна попыталась сообщить что-то такое красивое от балетного лебедя,– и от напряженной неловкости позы сразу стала задыхаться и дрожать.
Ей казалось, что она так долго не вытерпит. Еще сидя на остывающем мотоцикле, глядя прямо перед собой, Иван заговорил срывающимся голосом – она хоть понимает, что делает, над ним смеются мужики,– но Софья Андреевна, готовая услышать совсем другие слова, даже придумавшая их за Ивана (при помощи великого Толстого), ничего почти не поняла и перебралась на другое место в смутной надежде, что там и объяснение пойдет по-другому. Рядом вздохнуло, перемялось, шаркнуло – Софья Андреевна обомлела, будто вовсе этого и не ждала. Какое-то время она еще держалась, силясь не свалиться окаменелой статуей на Ивана, присевшего рядом, тяжело придавившего стог.
Во дворе, сквозь отвесный гудящий ливень, неясно рисовалась щербатая колоннада с чем-то рваным, свисающим с перекрытия. Убогие колонны стояли и сквозили будто в пустоте, еле-еле можно было различить за ними серую линию крыш,– но когда из ничего бесшумно возникала молния, вместе с нею возникал, надвинувшись, изъеденный особняк и несколько секунд стоял, словно таращился спросонья, а следом лупил оглушительный гром. Софья Андреевна все слушала, когда же Иван, переждав разбегающийся треск, скажет ей про свою любовь,– волновалась и вздыхала, будто виноватая. Безрукая Венера, повернув небольшую головку, глядела на нее каменными яйцами мраморных глаз.