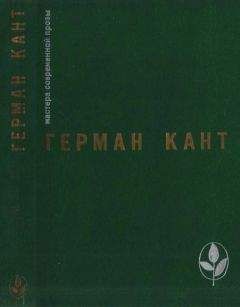— Условие точно такое же, как в задаче с пятнадцатью кузнецами и девяносто тремя жеребцами, — сказал Роберт. — Ее ты решил? Условия всегда одни и те же, только цифры другие, вот и все их уловки.
Якоб отложил тетрадь в сторону и начал растерянно слушать.
— Тогда я не понимаю, — проговорил он наконец, — к чему все эти лошади и спицы, если все дело тут в числах.
Но Трулезанд понимал.
— Это элементарная математика, — сказал он, — а потом у нас будет высшая математика, и тогда, наверно, все то же самое будет происходить на потолке или на воздушном шаре, а то и у ангелов на небесах.
Квази Рик запротестовал:
— Ребята, я изучаю субтропический пояс. Это интересно, но трудно, я устал, но доволен, мне здесь надо квази сосредоточиться, а все эти ваши напульсники уводят меня в сторону от субтропического пояса. На двери висит расписание, когда что учить. Предлагаю обозначить его как «организованное самообучение», сокращенно — «оргобуч». Я посвятил составлению этого плана все утро и предлагаю квази утвердить его общим голосованием. Итак, голосуем? Или, может, кто желает сперва прочесть?
Все пожелали сперва прочесть и единодушно одобрили: Квази составил план как надо — можно принять в качестве руководства. Даже для «высказываний по личным вопросам» — сокращенно «личвопр» — было отведено порядочное количество часов. План утвердили.
— Прежде чем я предамся организованному ночному отдыху, — сказал Трулезанд, — охраняемому ангелами и осыпаемому розами, а ты вновь причалишь к субтропикам, Квази, мне хотелось бы задать один «личвопр»: у тебя какой-то странный кашель, коллега, и какое-то странное одеяло. Взаимосвязь между первым и вторым я считаю научно доказанной. Как следует поступить в этом случае? Следует укрыть тебя теплее. И вот теперь-то и выявляется общественная значимость моей тети Мими. Она посылает тебе эту перину, и не стесняйся, а не то нам придется голосовать.
Разумеется, Квази все равно стеснялся, и, когда все трое принялись убеждать его, что, право же, стесняться тут нечего, он скрылся за печкой вместе со своим учебником географии.
Роберт и Трулезанд легли спать, и только некоторое время спустя, когда каждый уже думал, что другой спит, Роберт тихо спросил:
— А почему именно Вера?
— Ох, — сказал Трулезанд, — девчонка что надо.
Он поглядел в потолок, потом начал тихонько напевать:
Разгромили атаманов, разогнали воевод…
Роберт и Якоб подхватили, и даже Квази запел за своей печкой:
И на Тихом океане свой закончили поход…
Одним и тем же раствором циркуля можно от Гамбурга достать и до Балтийского моря и до Северного. От башни церкви св. Михаэля ближе до острова Фемарн, чем до красных скал Гельголанда. Если считать от Санкт-Паули, то Северное море лежит на западе, а Балтийское — на севере. И все-таки каждый приехавший издалека уже предчувствует, что там, за фрисландскими плотинами, откроется вид на ганзейский портовый город, и принимает Куксхафен за краешек Альтоны, и подымает к глазам цейсовский бинокль уже возле Зюльберга, стараясь разглядеть ближайший брандер. А в Нойбранденбурге, распивая пильзенское пиво, распевают песни о городе «на берегу океана» и при этом имеют в виду Гамбург, хотя находятся куда ближе к волнам Балтийского моря, чем воспеваемый ими город Гамбург к Немецкой бухте.
А если жителя Гамбурга занесет в такой, например, сухопутный город, как Парен, откуда легче добраться до дюн Кюлюнгсборна, чем от Финкенвердера до моря у Фридрихскуга, то никакая географическая реальность уже не спасет ганзейца от прозорливых взглядов сухопутных жителей, отыскивающих следы морской соли в его бровях и в бороде, а в его походке — извечный ритм морских волн. И во всем виновата Эльба.
Эльба сводит расстояние, равное ста десяти километрам, к нулю. Она уравнивает с морем семьсот сорок шесть квадратных километров земли, занятой домами и улицами, башнями, парками, фабриками, рынками, площадями, стадионами.
Эльба связывает воедино океан и город.
Эльба превращает миллион восемьсот тридцать тысяч торговцев мылом, разносчиков угля, владельцев ипподромов, регулировщиков уличного движения, билетеров, рабочих кондитерских фабрик и заводов металлоизделий, кровельщиков, гинекологов, служащих аэродромов, посетителей бистро, корзинщиков, карманных воров, криминалистов, психиатров, студентов, учеников школы прикладного искусства, старушек, первоклассников и грудных детей — превращает их всех в жителей побережья, обеспечивает им особую славу у всей нации — все они якобы просыпаются вместе с криком чаек и засыпают под шум прибоя.
Ах, в ушах у них совсем другие звуки, у этих мореходов по асфальту. Они слышат шум, доносящийся из аэропорта Фульсбюттель, и гудение электролебедок на стройке фирмы Унилевер, и рев львов из парка Гагенбека{23}, и пение шин, и числа, и даты премьер и голоса солдат, требующих пива. А гудки пароходов они слышат только по ночам, только тогда, когда перестают ходить трамваи. А шум гавани они слышат обычно только рано утром в воскресенье, когда его передают по радио, и само слово «гавань» навеки соединилось в их головах с духовым оркестром и верхненемецким напевом: «А что же я, ах, что же я…»
Но спроси их о приливах и отливах, попробуй заговорить с ними об этом на нижненемецком или просто спроси: «Что это такое, прилив и отлив, и как это получается?» И ты увидишь: каждый из них знает, что это что-то такое, когда меньше воды и когда больше воды, и как-то там — на это выражение ты можешь твердо рассчитывать, — как-то там все это зависит от луны. Больше ты ничего не узнаешь, кто бы тебе ни попался — первый ученик или чиновник из портового ведомства.
Но если ты спросишь чиновника из портового ведомства насчет отлива, а тем более насчет прилива в начале 1962 года, то не удивляйся — он вдруг вспомнит, что торопится на давно назначенное деловое свидание, и не успеешь ты еще выговорить слово «прилив», как в двери появится секретарша и передаст своему шефу приказание от его шефа явиться к нему немедленно, и ты останешься один, сначала на стуле в приемной перед дверью его кабинета, затем в коридоре и наконец на улице перед дверью портового ведомства — наедине со своими вопросами и со своими, почерпнутыми из энциклопедии, знаниями относительно разницы уровня воды при приливе и при отливе и закона Ньютона о земном притяжении и о взаимодействии между землей, солнцем и луной; один со своими открытиями о суточном, зенитном и лунном приливах.
Роберт ничему не удивлялся.
Город, в который он приехал не как сын, а как задающий вопросы чужеземец, недавно потерпел поражение, возможно, самое горькое или по крайней мере одно из самых очевидных со дня своего основания.
На этот раз, правда, число человеческих жертв было невелико по сравнению с другими временами; оно было даже ничтожным, если вспомнить о тех годах, когда смерть не из воды подымалась, а падала с неба, вылетев из бомбовых люков или из орудий на борту самолета.
Но то было во время войны, а это — во время мира.
Если подсчитать убытки, то вода уничтожила даже меньше зданий, чем большой пожар в 1842 году, о котором писал еще Гейне в «Зимней сказке»:
Полусгоревший город наш
Отстраивают ныне.
Как недостриженный пудель, стоит
Мой Гамбург в тяжком сплине.
Но это было много десятилетий назад, когда выражение «железная дорога» было на берегах Эльбы менее известным, чем теперь слово «ракета» на дорогах Африки. Пожар произошел в старые, горестные времена, а наводнение случилось теперь, в течение одной зимней ночи.
Это было поражение, а побежденные не любят отвечать на вопросы.
Господин Виндсхуль, коммерсант, был одним из немногих, ответивших без замешательства на вопрос Роберта.
— Почему бы мне и не поговорить с вами, — сказал он. — Если я не сделаю этого сегодня, мне, быть может, придется сделать это завтра: завтра вы, возможно, обратитесь ко мне по делу, и как я буду выглядеть, если вы окажетесь недостаточно тактичным и напомните мне о сегодняшнем отказе? А это вполне вероятно, я и сам на вашем месте был бы недостаточно тактичным. Так лучше уж поговорим сегодня. Вы упомянули про пожар сорок второго года и про Гейне. Про Гейне, очевидно считая, что я его не знаю и вы можете щегольнуть передо мной своей эрудицией, а мне придется почувствовать смущение.
Но если вы ничего не имеете против, я дам вам один совет: никогда не рассчитывайте на невежество других. Я сам не раз допускал подобную ошибку, и, как правило, за нее приходилось расплачиваться. Если бы вы пришли ко мне лет десять назад, я — независимо от того, захотел ли бы я вообще вас принять, — очевидно, подумал бы: «Интересно! В мою дверь постучался журналист коммунистического толка, ну что ж, пусть войдет, ничего не случится, если я потрачу минут пятнадцать, чтобы выслушать его заклинания: империализм, загнивающий капитализм, будущее Востока, пролетарии всех стран, возрастающее обнищание, экспроприация, ни бог, ни царь и не герой, и прочее, и прочее». Теперь я стал умнее, теперь я знаю: вы пришли сюда не для того, чтобы спасти мою душу, вы не собираетесь обратить меня в новую веру, вы хотите всего лишь узнать мое мнение и хотите этого потому, что вам приходится со мной считаться.